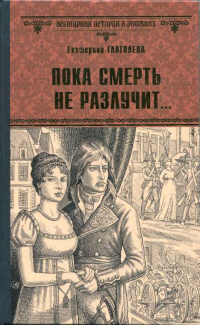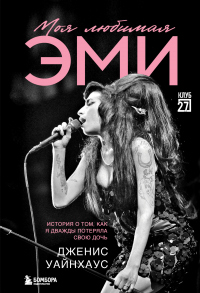Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Революция 1789 года полностью изменила жизнь каждого француза — от быта до символов и календаря. Что делать? Бежать или оставаться, бороться или смириться? Колесо Истории раздавило одних и вознесло других; покровы лицемерия сброшены, жестокость и подлость торжествуют, но порядочность, любовь и верность не исчезли. Еще вчера генерал Лафайет был народным кумиром; сегодня он объявлен изменником и находится в плену у австрийцев; его жена Адриенна добровольно отправляется в Ольмюц вместе с дочерьми, чтобы разделить заключение мужа. США требуют освобождения героя Нового Света, но свободу ему приносят военные успехи в Италии молодого генерала Буонапарте, который тоже встретил свою большую любовь… Книга является продолжением романа «Любовь Лафайета», ранее опубликованного в этой же серии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Екатерина Глаголева»: