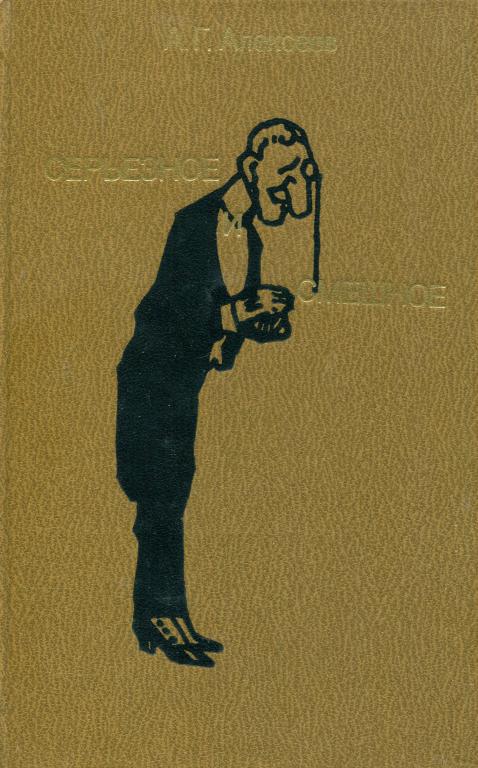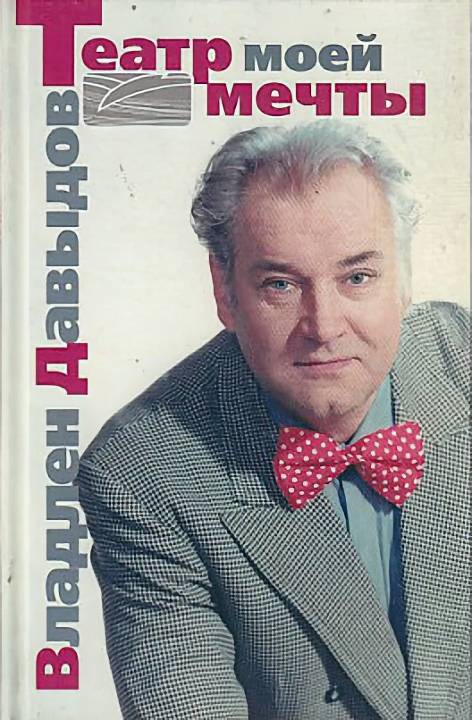Шрифт:
Закладка:
А юмор не был чужд Голейзовскому и в жизни и в танце! И «Музыкальную табакерку» Лядова он и Петрицкий инсценировали, и пародию «Уголок цирка» мы с ним придумали, и даже из скороговорки «Жил-был Як» он сделал «японский балет»! И не так уж мы молоды были (мне за тридцать, ему под тридцать), а неспокойные натуры, — и захотелось нам высмеять доморощенных «европейцев»: ведь и тогдашние предки сегодняшних ультратанцоров кривлялись в шимми, фокстротах, чарльстонах не хуже, чем нынче их внуки и внучки в рок-н-роллах, шейках (нет, все-таки похуже — теперешние деды и бабки тогда не додумались еще до осьминого- и паукообразных вывертов!). И поставил Касьян Ярославич очень смешную пародию. Но возникло у нас беспокойство. Часто под видом высмеивания протаскивают на сцену весьма сомнительные и соблазнительные анекдотики, песенки, мимические сценочки — так не станет ли и наша пародия эталоном? Примером для подражания?
Тогда придумали мы вот что. Сперва показали этакий гнусноватый сверхсалонный танец, и когда доведенные до полного изнеможения танцоры почти уползали со сцены, на втором плане резко раздергивался занавес, и…
Во всю сцену — огромная рама. В ней точно воспроизведенная картина Репина «Бурлаки». Но это живые люди. И вот мощный голос Федора Ивановича Шаляпина запевает «Много песен слыхал я в родной стороне…», бурлаки подхватывают «Эх, ухнем!» и идут… идут, выходят из рамы, тянут с натугой свои лямки и идут… идут… уходят. На сцене пейзаж — Волга… Занавес.
То ли резкая смена впечатлений, то ли противопоставление пошлого танцкривляния тяжкому труду, но зал всегда молчал… молчал, может быть, полминуты… Казалось — провал. А потом (что уже не, раз описывалось) единодушные аплодисменты (на которые танцоры не хотели выходить — неловко!).
Все это, конечно, сопровождалось конферансом, чуть-чуть разъяснительным.
Да, учился изобретать, оттачивал свое молодое мастерство Касьян Голейзовский в театре «Кривой Джимми».
Когда все это уже было написано, вышел очередной номер журнала «Театр». И я был приятно удивлен, опять (через столько лет) увидев наши фамилии в одном и том же журнале! Если обо мне Павел Александрович Марков в своих воспоминаниях написал несколько строк, очень хороших (и потому показавшихся мне убедительными и правильными!), то о Голейзовском, о его работе почти во всех статьях, посвященных международному конкурсу артистов балета, пишут восторженно: и «необходимо сказать самые теплые слова», и «рафинированная пластика», и «одно из самых ярких впечатлений», и «особая удача», и, наконец, Майя Плисецкая называет его творчество «бриллиантом чистой воды»!
Я был в зале Чайковского на вечере Голейзовского. И понял, почему после балетного конкурса никто не молчал об его «Размышлении» на музыку Массне, почему для молодых балетмейстеров он — непререкаемый авторитет, мэтр: на сцене была ЛЮБОВЬ. Казалось бы, тема вечная, отнюдь не «новаторская», но в наши дни, когда часто, слишком часто само поэтичное слово «любовь» подменяется научным термином «секс», необходимо глазам, душе, уму хоть иногда встречать и в жизни и на сцене любовь, радостную и страдающую, страстную-и все-таки целомудренную! Вот такую любовь танцуют ученики — последователи Голейзовского — Большакова и Гуляев… И мне очень и очень приятно было вспоминать вместе с Касьяном Ярославичем дни, когда этот «бриллиант чистой воды» сверкал в нашем «Кривом Джимми»!
ГЛАВА 12
ЕЩЕ БРИЛЛИАНТ
В 1921—1922 годах театр «Кривой Джимми» в Москве был местом, куда молодые драматурги, поэты, музыканты, художники — Н. Эрдман, В. Инбер, М. Вольпин, В. Зак, А. Рождественский, М. Блантер, Ю. Милютин, Д. Покрасс, В. Кручинин, А. Петрицкий, Б. Эрдман — приносили плоды своего творчества.
Кто-то из них привел однажды молодого невысокого человека. Познакомились.
— Алексеев.
— Дунаевский.
Лицо обыкновенное, но жесты стремительные, глаза озорные. Фразы не дослушивает — понимает с полуслова. И спорит… Обещал прийти и принести что-нибудь из своей музыки.
Не пришел и не принес.
А в 1927 году мы встретились в Театре сатиры.
Он — заведующий музыкальной частью, я — художественный руководитель.
И по-ошли дискуссии, споры о музыке, о сатире, о песне, об оперетте. И споры эти — темпераментные, принципиальные, всегда интересные, всегда и колючие и товарищеские — длились тридцать лет! Мы спорили бы и сегодня, если бы…
Исаак Осипович (это официально, а для друзей — Дуня) был нетерпелив и непримирим, и как-то раз в разгаре спора, или, если хотите, более дипломатично — в разгаре обсуждения, я сказал ему:
— Знаете, Дуня, с вами спорить нельзя! Про вас писал еще Толстой.
— Толстой? Про меня? Что за вздор. Вечно вы со своими…
— Да в «Крейцеровой сонате»: «Она, по привычке многих дам, отвечала не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет…» Вот вы — эта дама.
И Дуниной злости как не бывало. Детский смех, заливчатый, со слезами, тот смех, которым он встречал и привечал любое озорство — в пьесе, в музыке, в анекдоте, конечно, если это озорство было умным и талантливым.
Темпераментным Дунаевский был всегда и никогда безразличным. Этого страстного спорщика переубедить было почти невозможно. И если вам все-таки удавалось это, он смущенно чесал крыло носа и говорил:
— Да-а… но все-таки!..
И вел ли он спор о современной музыке, о новой песне, препирался ли со своим другом А. А. Менделевичем из-за неправильного хода в преферансе — все было для него важно, все утверждалось или отрицалось с огромной убежденностью в своей правоте, которую он отстаивал со всей душой.
Может быть, поэтому и музыка Дунаевского всегда убеждает, никогда не оставляет вас безразличным.
Конечно, Дунаевский дорог нам в музыке как лирик. Но мне, пожалуй, дороже его юмор.
Юмор в музыке — явление не частое. А у Дунаевского? Во многих его фильмах, ариях, песнях есть смешинка.
Вот он у рояля.
— Хотите прослушать? Сегодня закончил.
И вы слушаете и улыбаетесь, потом, может быть, смеетесь. А Дуня играет и озорно посматривает на вас.
— Дуня, что это?
— Пока ничего!.. Не готово… — И захлопывает клавир.
— А слова есть?
— В том-то и дело, что текст есть и давно есть, а у меня не получается.
Как у по-настоящему одаренного человека, требовательного к себе, все и всегда у него «не получается», «не готово», «не годится»!
В тридцатом году я ставил в Театре оперетты его оперетту «Полярные страсти» (комедия А. Арго и Я. Галицкого).
Идет одна из последних репетиций. Ярон закончил с оркестром свой танец и подходит к нам.
Д у н а е в с к и й. Это не пойдет.
Я р о н. Что не пойдет?
Д у н а е в с к и й. Этот номер. Музыка.
Хотя говорит он это на полном серьезе, но чем черт не шу… чем Дунаевский не шутит… Но нет! Ему, оказывается, «это место с самого начала не нравилось,