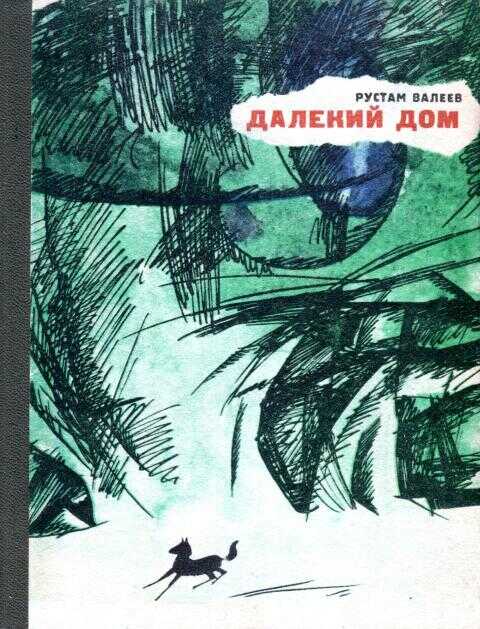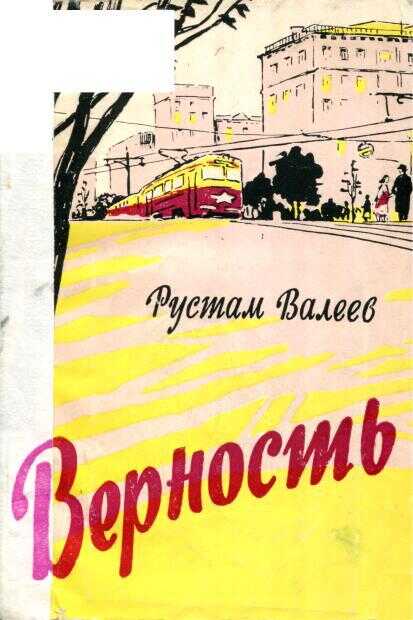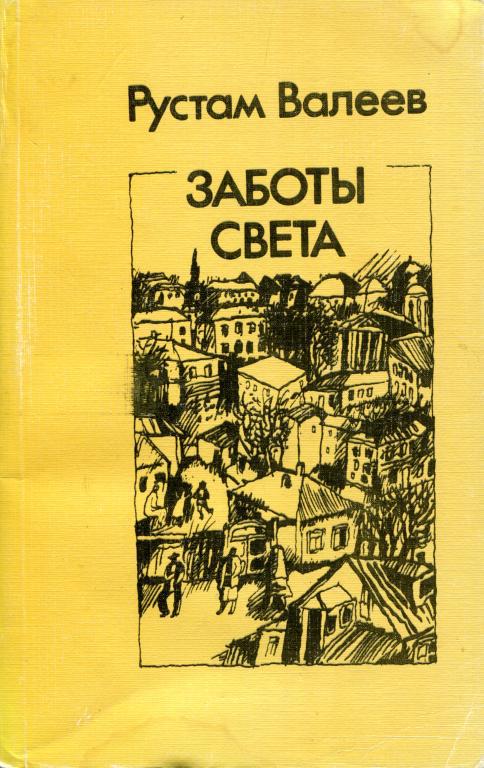Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Действие повести Рустама Валеева «Далекий дом» развертывается на фоне событий, имевших место на Южном Урале в предреволюционный период и в годы восстановления народного хозяйства. Автор прослеживает пути и судьбы многих и разных людей на крупном рубеже смены исторических эпох.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Рустам Шавлиевич Валеев»: