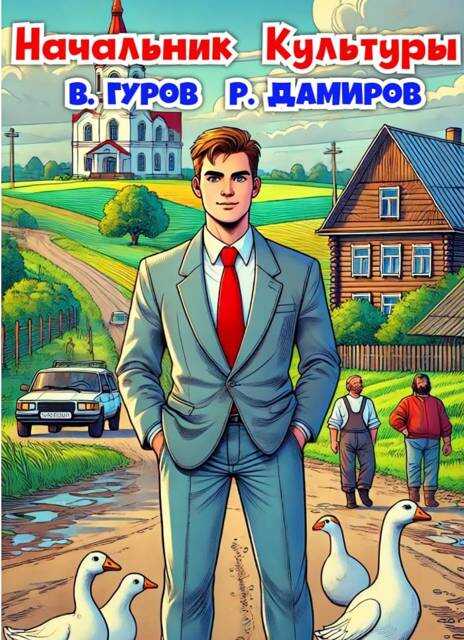Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
ПЕРВЫЙ ТОМ ТУТ: https://author.today/work/302039 Я был успешным предпринимателем, но погиб от рук конкурентов. Судьба подкинула подлянку – я не отправился «на покой», а попал в прошлое. Душа вселилась в выпускника пединститута. На дворе 1980 год, а я простой физрук в советской школе, который должен отработать целых три года по распределению. Биологичка положила на меня глаз, завуч решила сжить со свету, а директор-фронтовик повесил на меня классное руководство. Где я и где педагогика?! Ничего, прорвемся… Вот только класс мне достался экспериментальный – из хулиганов и второгодников, а на носу городская спартакиада. Как из малолетних мерзавцев сколотить команду?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Александрович Гуров»: