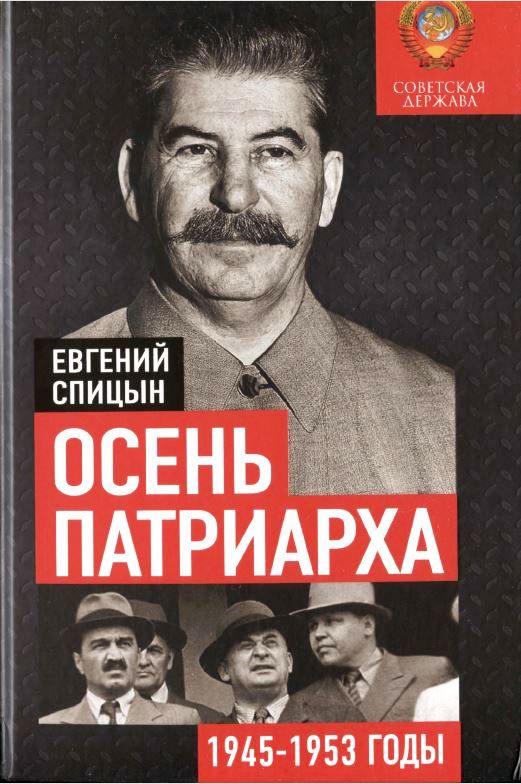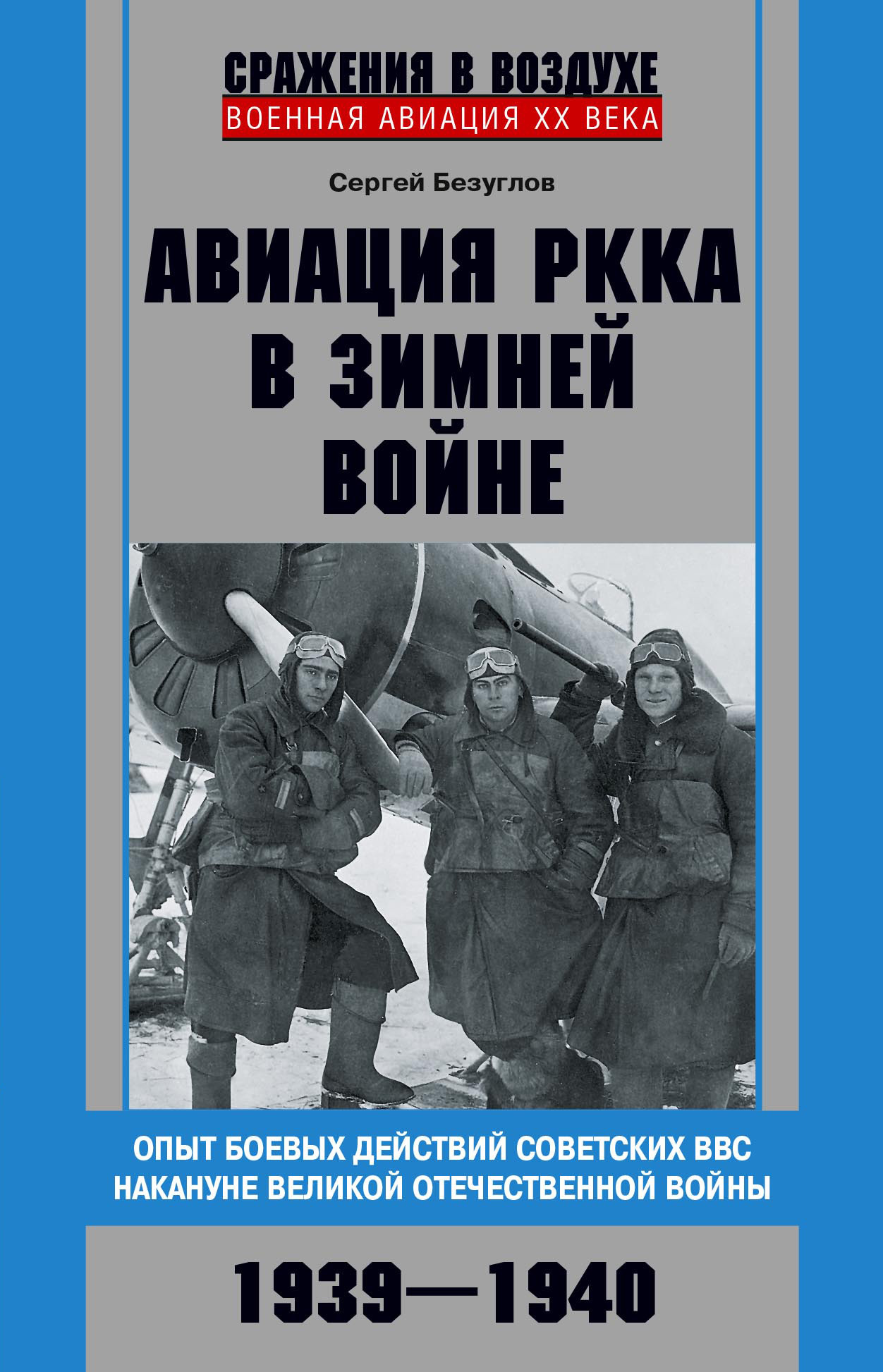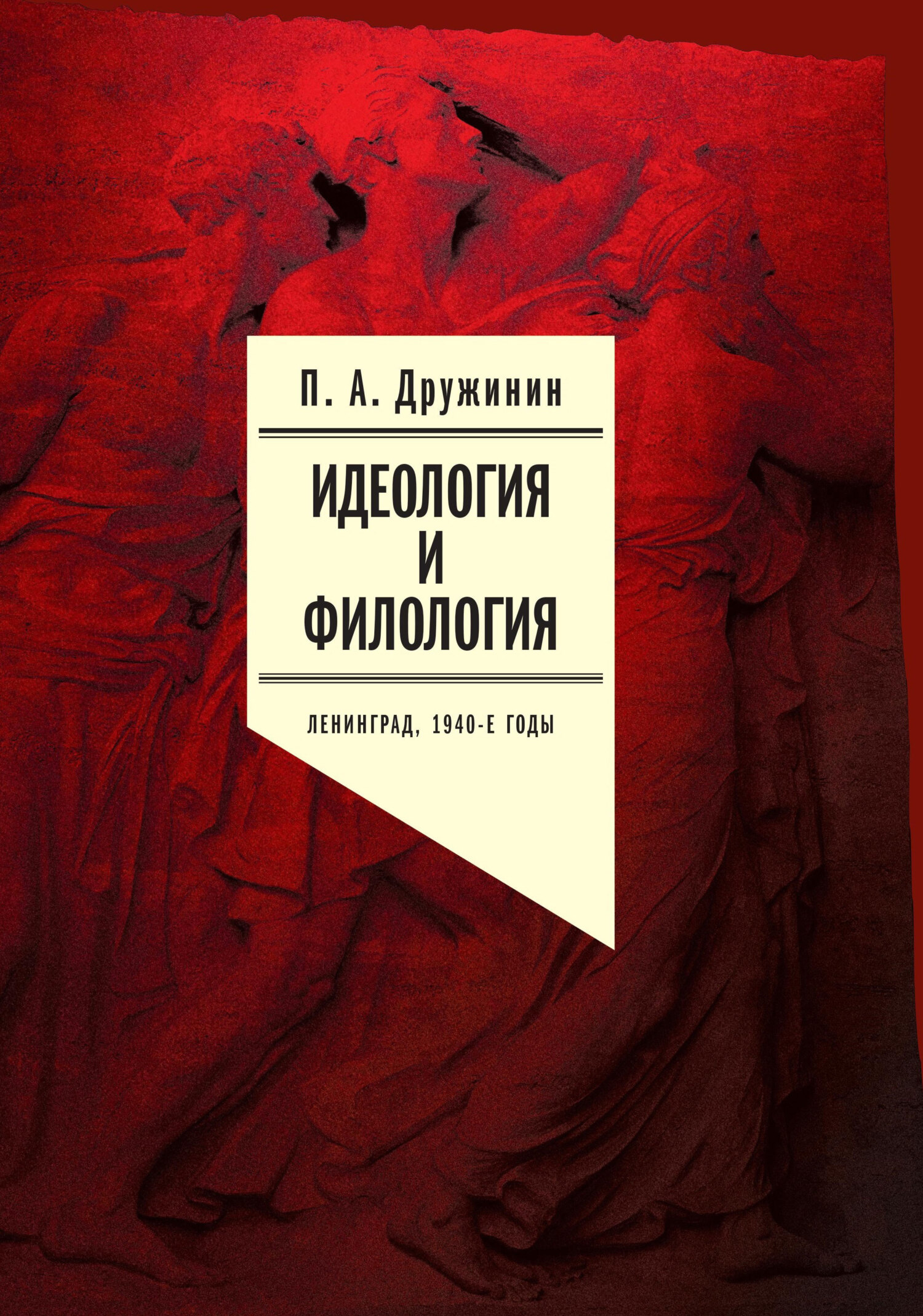Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Монография посвящена анализу влияния идеологических кампаний и дискуссий (борьбы с «низкопоклонством» перед Западом, борьбы с «буржуазным объективизмом», антикосмополитической кампании, дискуссий о языкознании и политэкономии) «позднего сталинизма» на советскую историческую науку. Впервые в научной литературе дается общая картина влияния идеологических кампаний и дискуссий на корпорацию советских историков. Для выявления механизмов и закономерностей изучаемых процессов советская историческая наука вписывается в политическую культуру сталинской эпохи. Подробно анализируется состояние профессионального сообщества историков в 1930-1940-е гг.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виталий Витальевич Тихонов»: