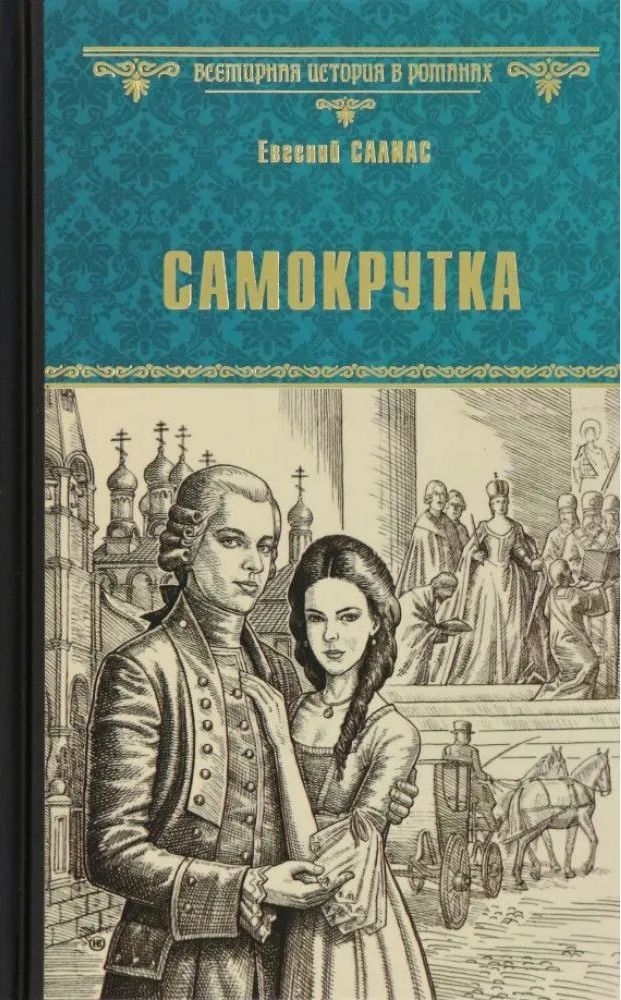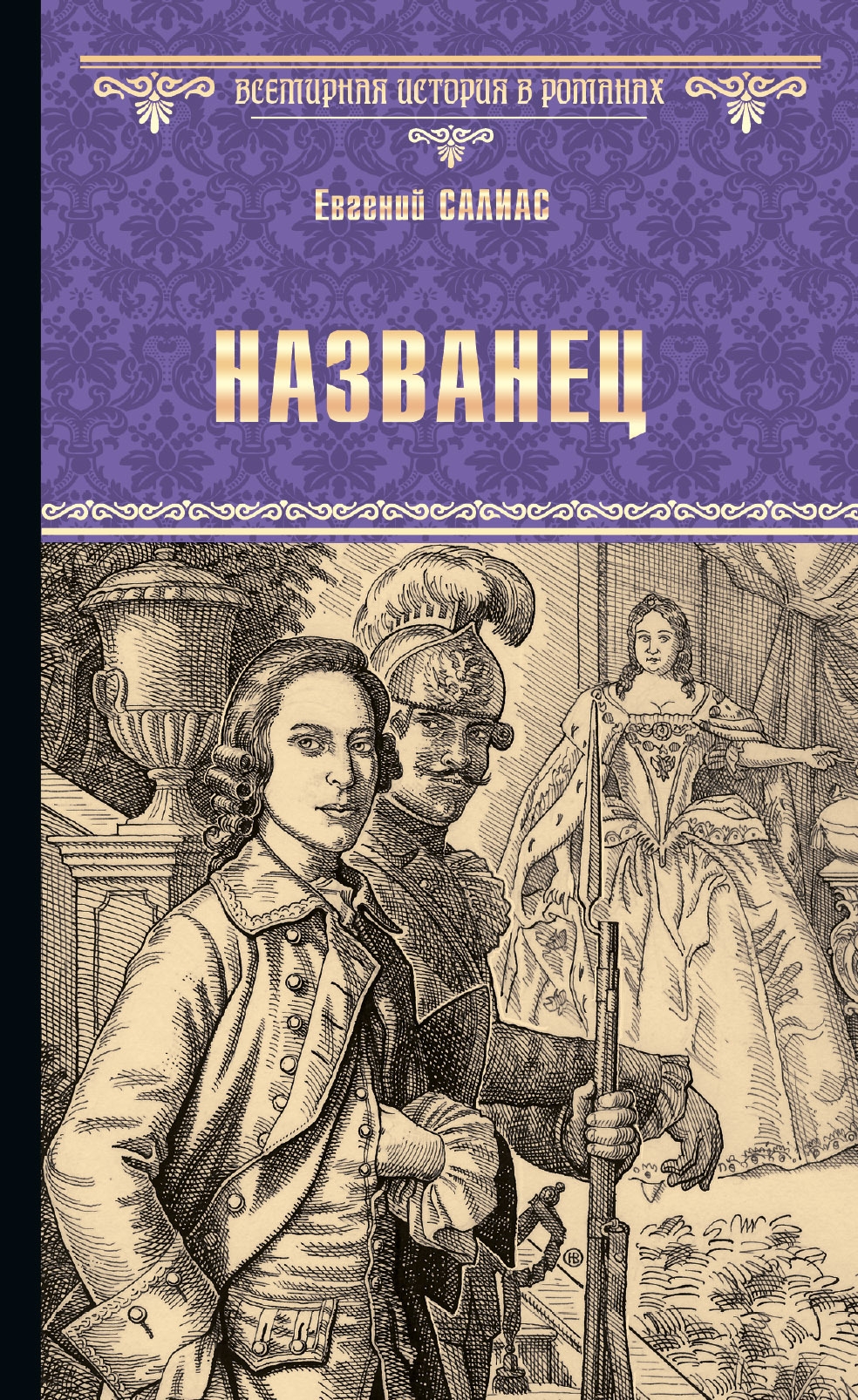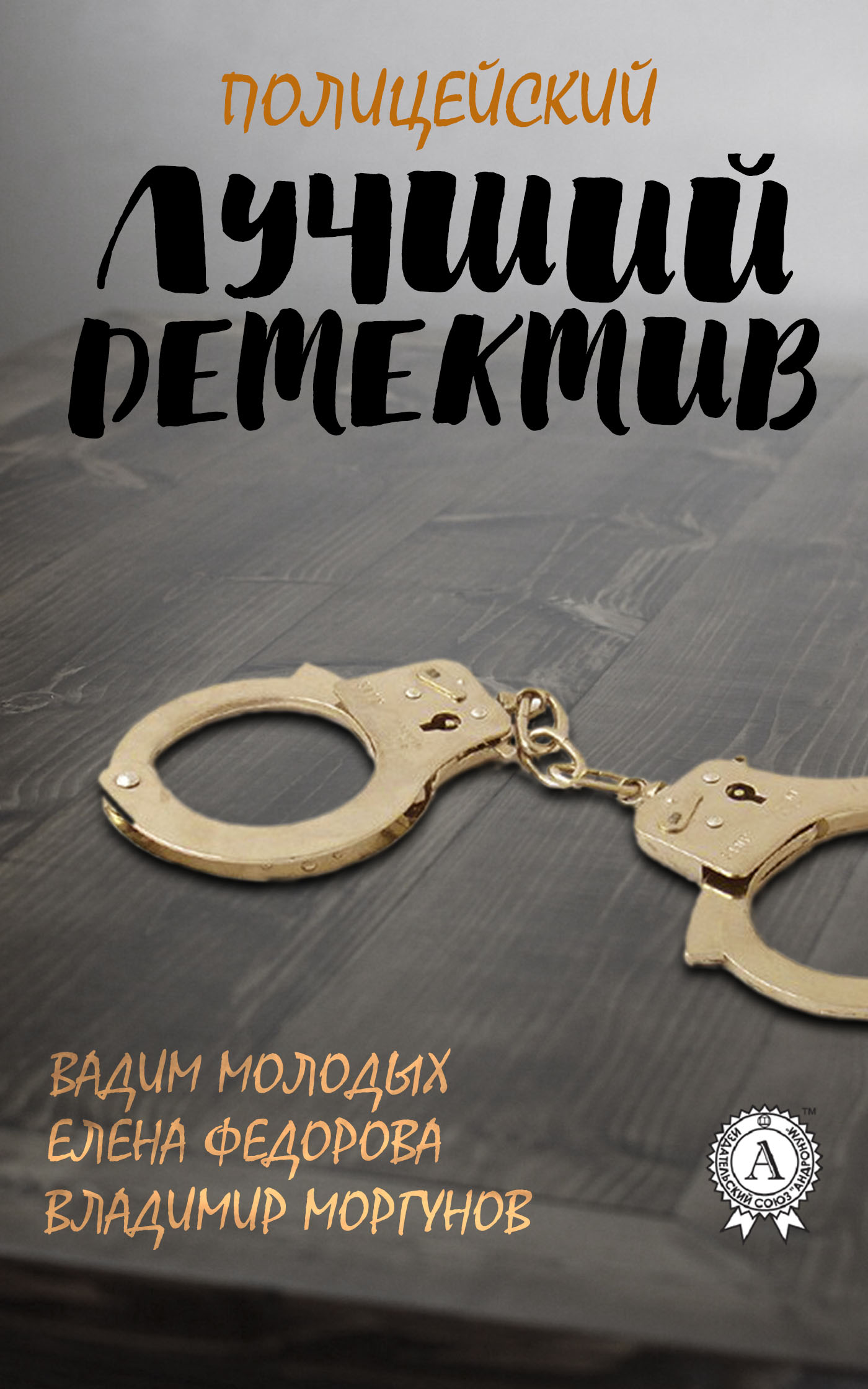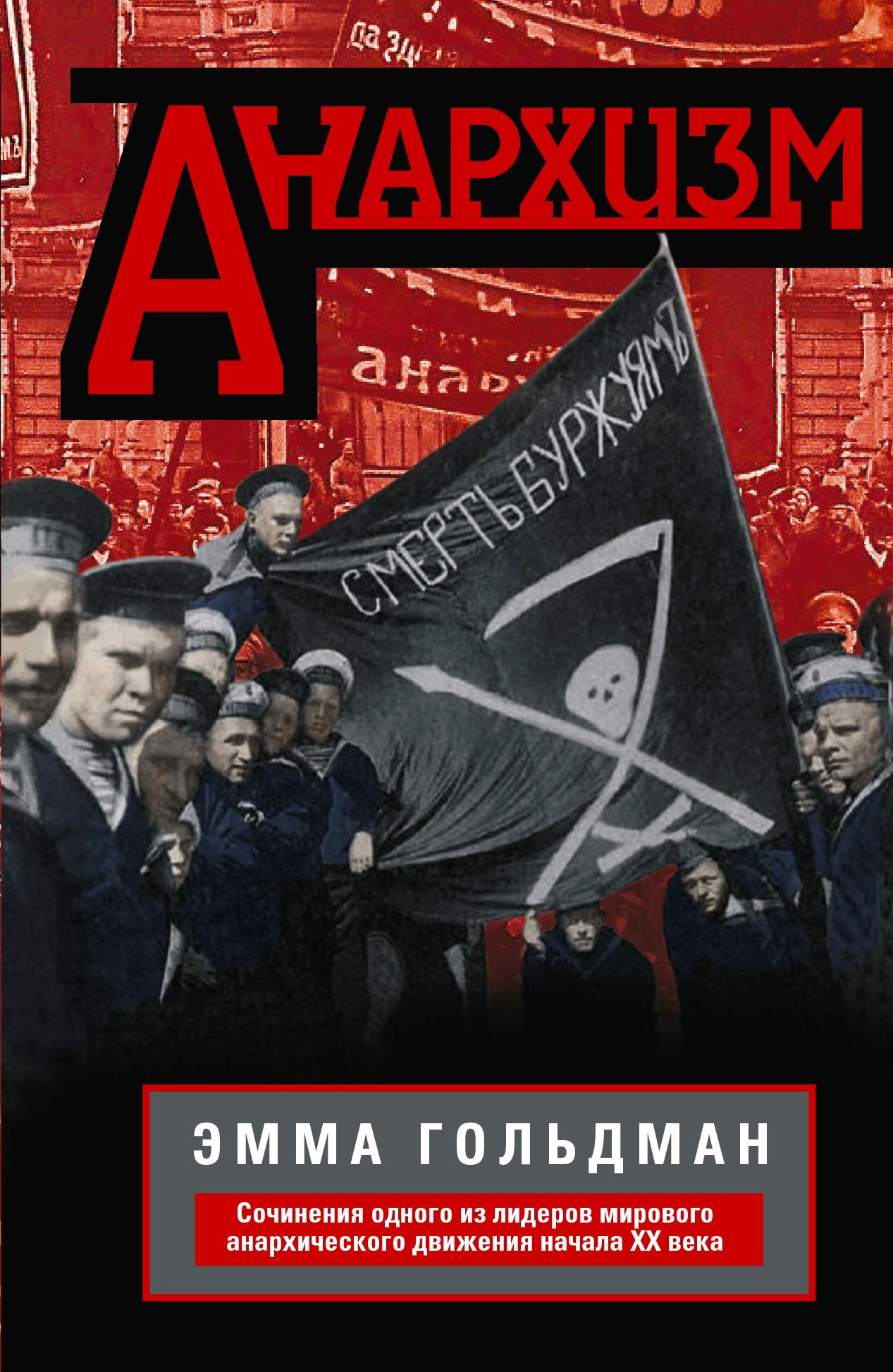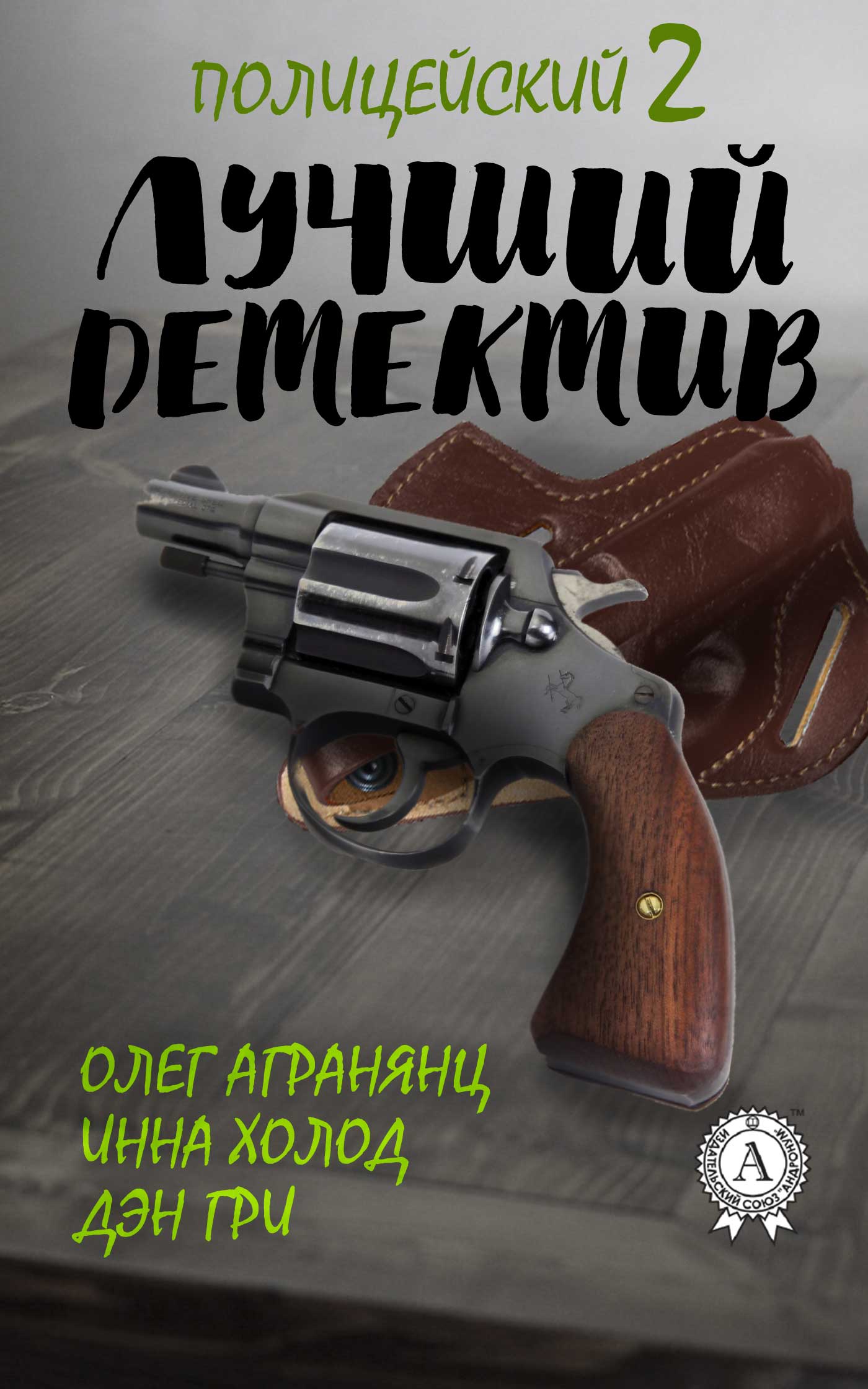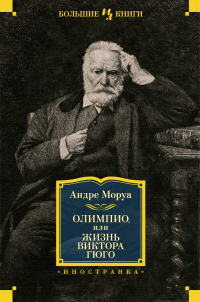Шрифт:
Закладка:
Лето 1740 года. В Петербурге неспокойно. Государыня Анна Иоанновна хворает, врачи опасаются за её жизнь, а это значит, что земля уходит из-под ног у временщика Бирона, поэтому он спешно укрепляет собственную власть — колеблющихся стремится купить деньгами и чинами, а врагов, пусть даже мнимых, бросает в застенки. Любой человек, даже далёкий от политики, может оказаться в крепости по лживому доносу. И так происходит с молодым дворянином Львовым, который, сбежав из-под ареста, вынужден стать названцем, то есть взять чужое, немецкое, имя, но судьба Львова всё равно полностью зависит от того, чем закончится борьба за трон, который скоро станет вакантным. Таков сюжет романа «Названец», а своеобразным дополнением этой истории является повесть «Камер-юнгфера», где действие разворачивается осенью 1740 года, после смерти Анны Иоанновны.