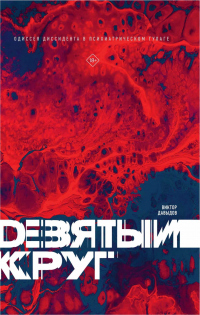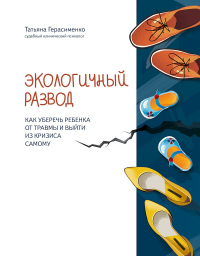Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Девятый круг» — это рассказ о карательной психиатрии, возникшей в СССР по инициативе Ф. Дзержинского в начале 1920-х. Проходили десятилетия, а в советских спецбольницах сидели тысячи совершенно невиновных людей и ничего не менялось. О существовании спецпсихбольниц журналист и правозащитник Виктор Давыдов знает не понаслышке: он сам был их заключенным. В этих секретных учреждениях, в отличие от обычных островов «архипелага ГУЛАГ», заключенные уже как бы не существовали. Их заявления в государственные органы не рассматривались, увечья и смерть не расследовались, да и срок не определялся законом. Об этих учреждениях даже в лагерях ходили жуткие слухи, а на Западе долгое время о них вообще не знали. К счастью, автору «Девятого круга» удалось выжить, выйти на свободу и рассказать не только о пережитом им самим, но и о страданиях многих людей — рабочих, интеллигентов, художников, литераторов, испытавших на себе все ужасы карательной психиатрии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Давыдов»: