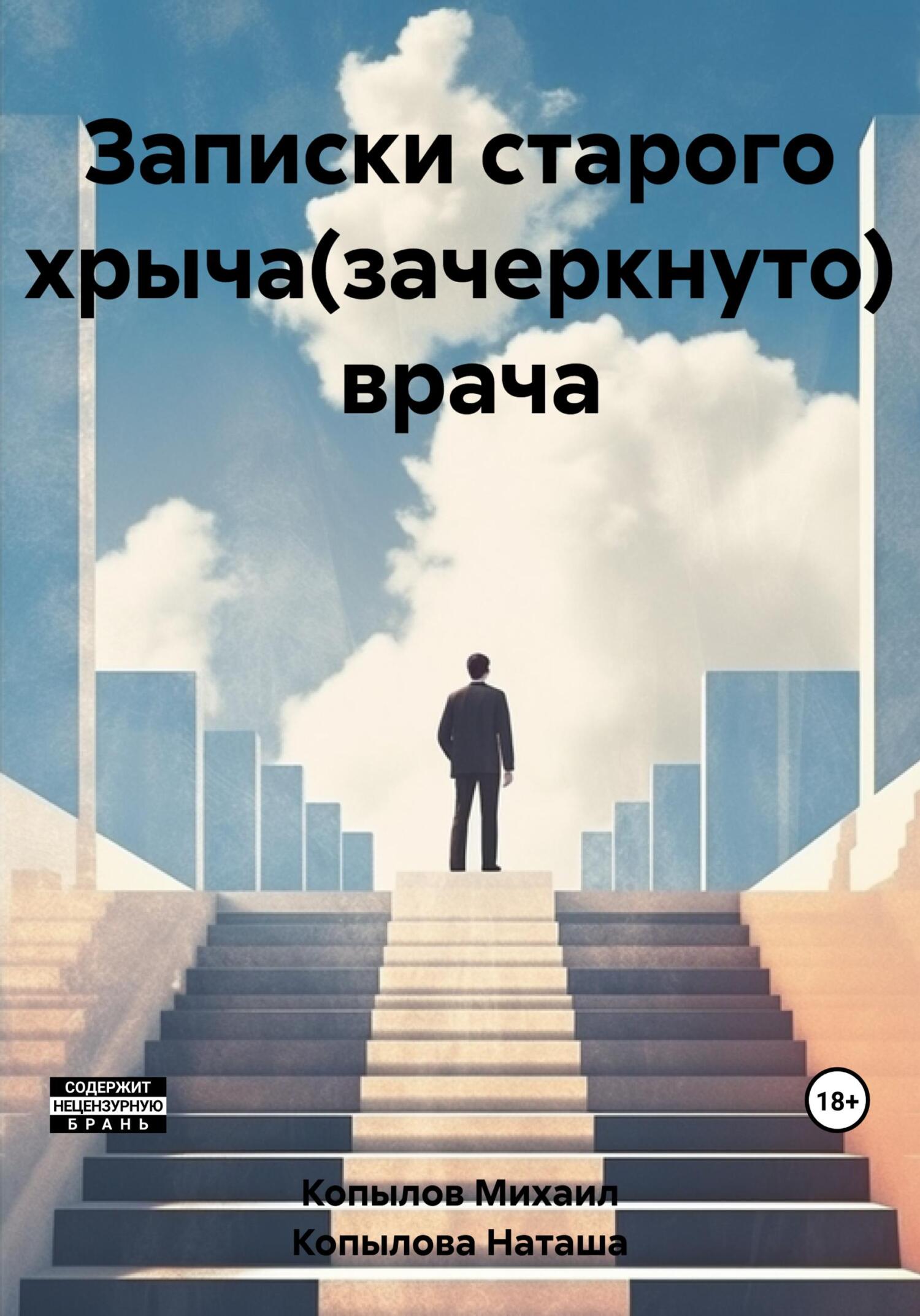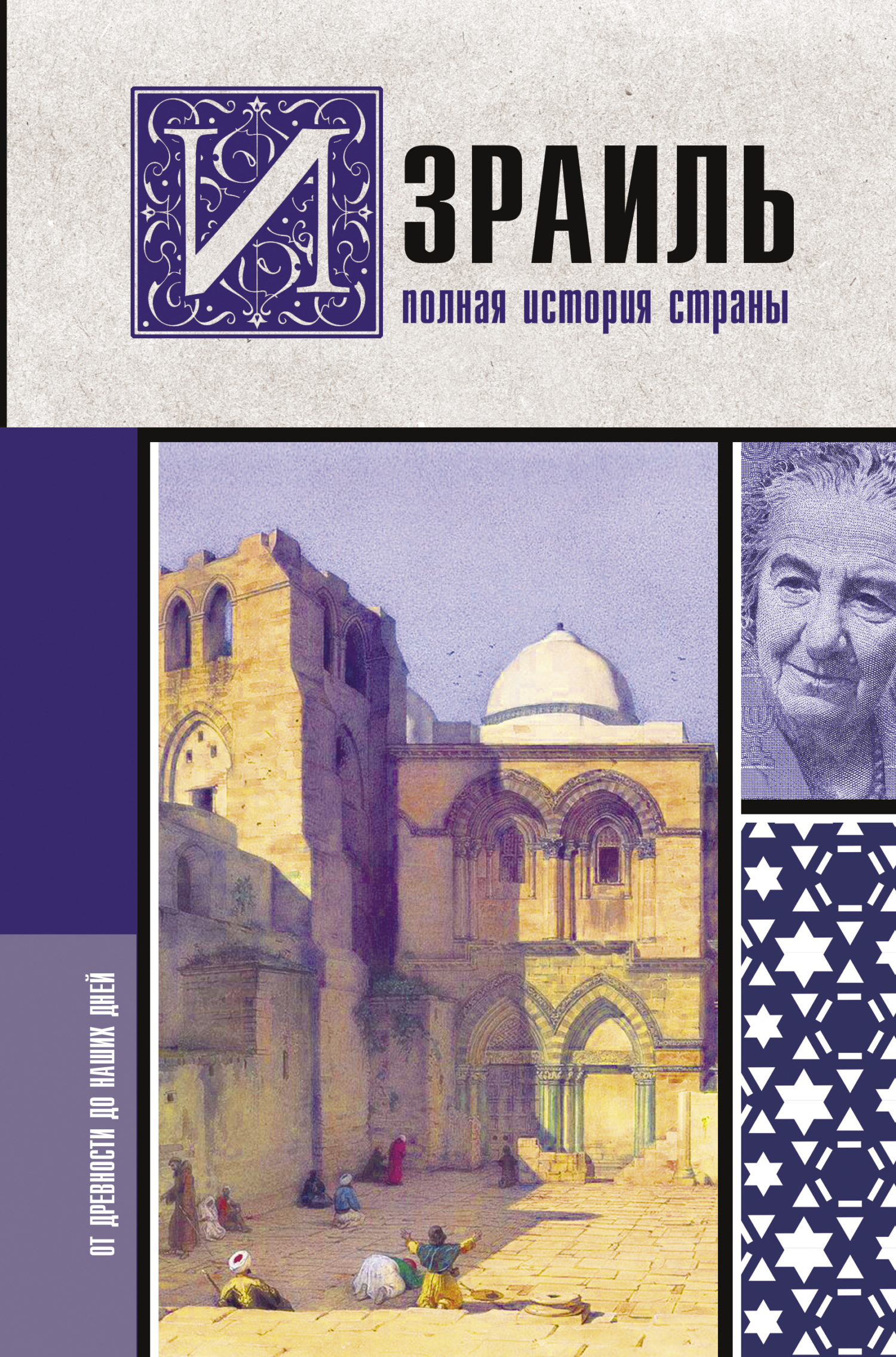Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мемуары пишут нынче все, но читателей стало заметно меньше пишущих. Но докторские рассказы любят даже доктора, тем более речь идет о такой области как психиатрия. Есть еще одна часть книги — о том, как мы жили до того как в 1990 году приехали в Израиль. Я постарался сделать эту книгу легкой и по возможности смешной.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Копылов»: