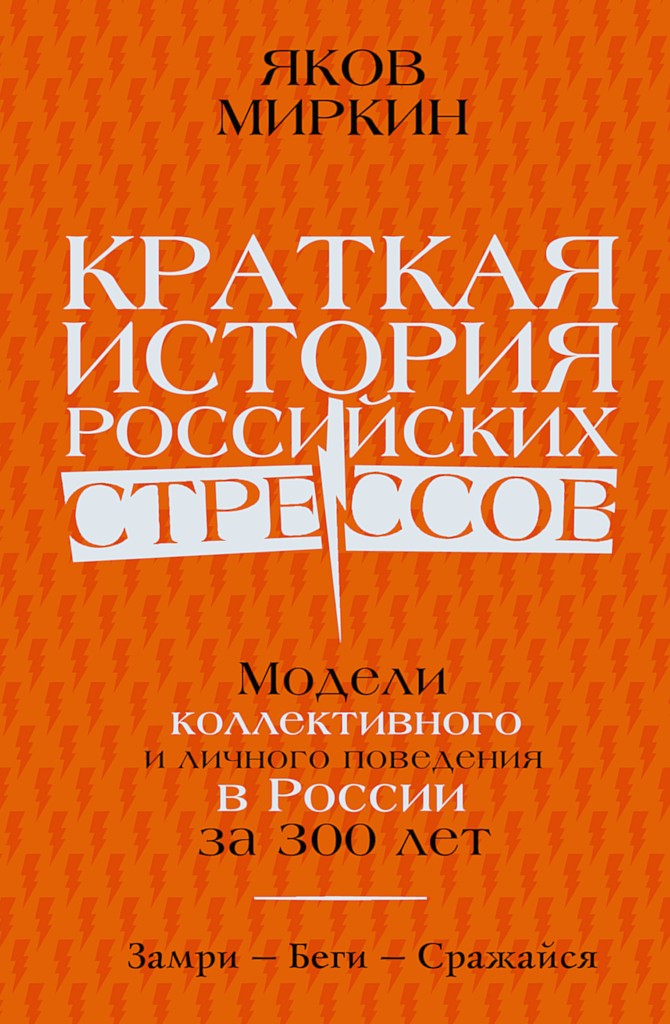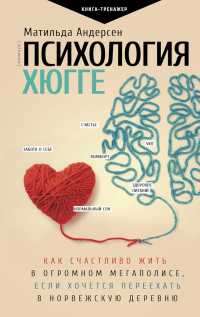Шрифт:
Закладка:
В своей новой книге знаменитый экономист и колумнист Яков Миркин рассматривает модели российского коллективного и семейного поведения во время войн, революций, реформ, репрессий, кризисов. В чем состоят особенности нашей психологии: как мы отвечаем на риски и вызовы в течение 300 лет? Какую реакцию на стресс из классической триады «Замри — беги — сражайся» мы выбираем? Какие личные и семейные стратегии можно применить в России для экономического роста и процветания в будущем? Перед читателями развернется целая галерея исторических личностей — императоров, полководцев, политиков, ученых, деятелей культуры. Поведение каждого из них является примером определенной реакции на стресс. Эта книга — интереснейшая попытка объяснить историю и современность России с точки зрения психологии народных масс и лидеров.