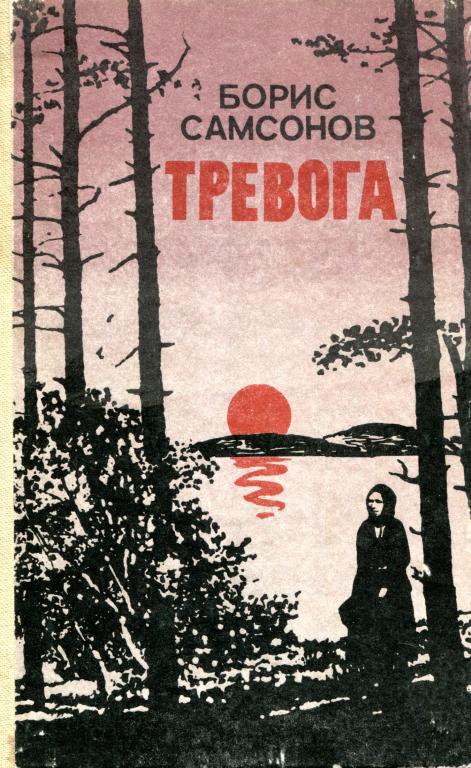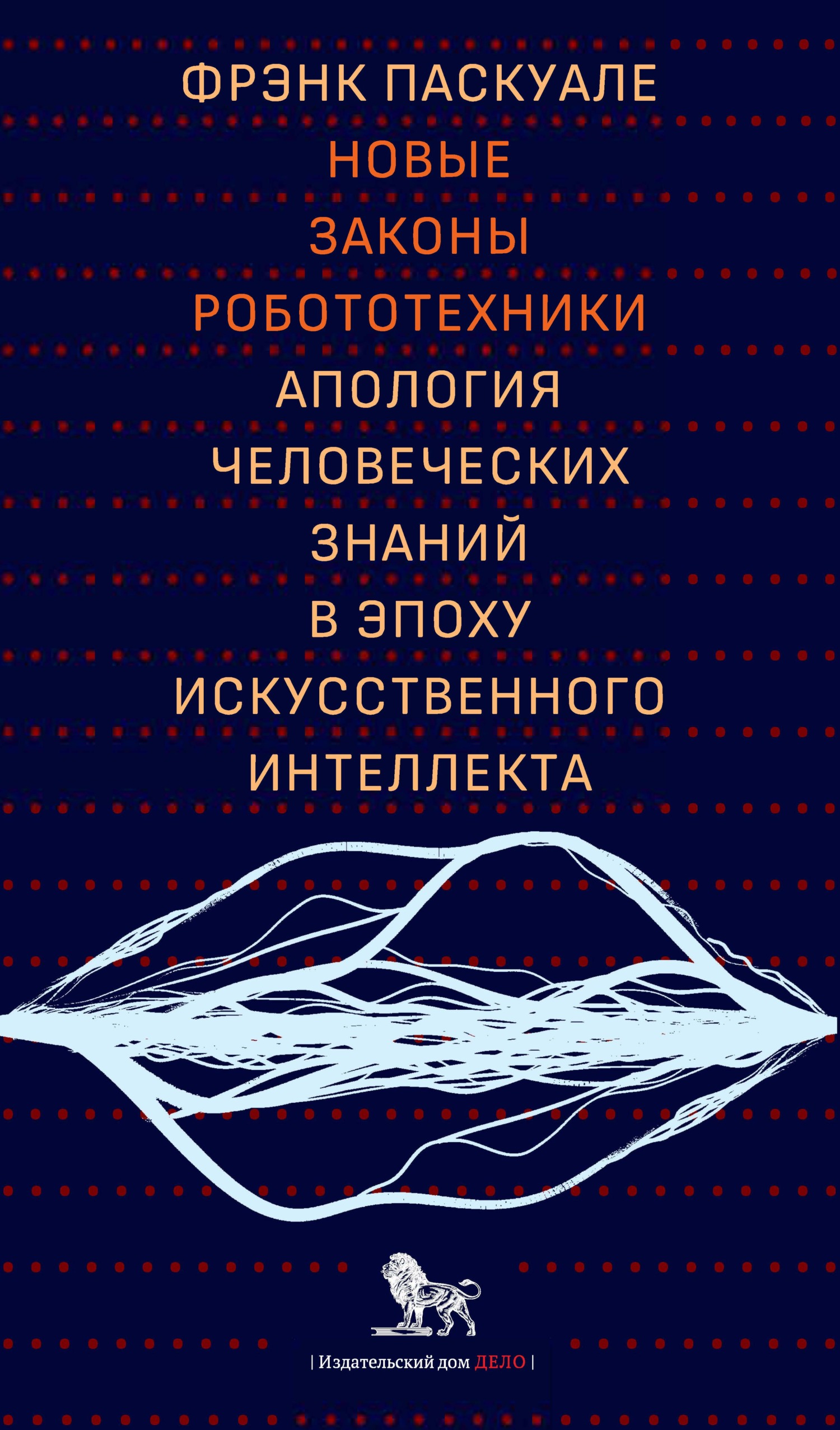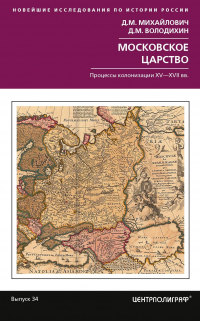Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга — о стойкости и мужестве советского человека. Знакомится ли читатель с Мониным, одним из героев повести «Лед и пламень», или с братьями Яровыми и их матерью Еленой Алексеевной в заглавной повести, — все они яркий пример для подражания. Книга адресована молодому читателю.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Георгиевич Самсонов»: