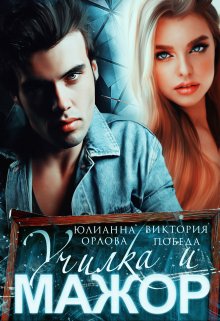Шрифт:
Закладка:
Анна Капица – человек уникальной судьбы: дочь академика, в юности она мечтала стать археологом. Но случайная встреча в Париже с выдающимся физиком Петром Капицей круто изменила ее жизнь. Известная поговорка гласит: «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Именно такой музой была для Петра Капицы его верная супруга. Человек незаурядного ума и волевого характера, Анна первой сделала предложение руки и сердца своему будущему мужу. Карьерные взлеты и падения, основание МИФИ и мировой триумф – Нобелевская премия по физике 1978 года – все это вехи удивительной жизни Петра Леонидовича, которые нельзя представить без верной Анны Алексеевны. Эта книга – сокровищница ее памяти, запечатлевшей жизнь выдающегося ученого, изменившего науку навсегда. Книга подготовлена Е.Л. Капицей и П.Е. Рубининым – личным доверенным помощником академика П.Л. Капицы, снабжена пояснительными статьями и необходимыми комментариями.