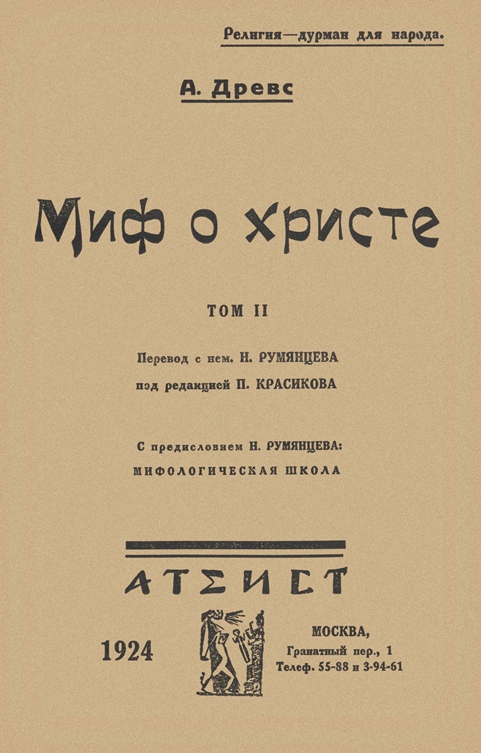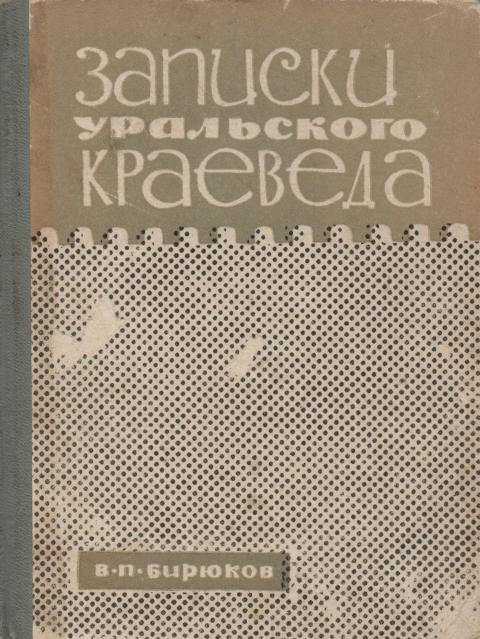Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Июль 1889 года. Клим Ардашев возвращается в Ставрополь на каникулы. Ещё в экипаже он узнаёт, что в результате несчастного случая погиб частнопрактикующий врач. Но так ли было на самом деле? Молодой сыщик не ожидал столкнуться с человеком, живущим под чужим именем, гипнотизёром и даже оказаться в комнате пыток. Колесо преступлений вертится. Удастся ли студенту его остановить?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Иванович Любенко»: