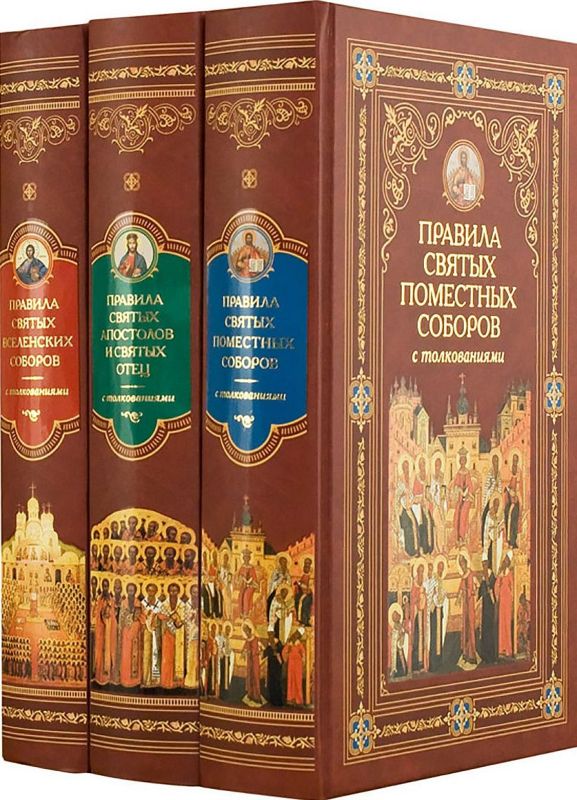Шрифт:
Закладка:
Время, когда Тьма обернется Светом, а Свет – Тьмой. Эта история о гниющем заживо короле, вынужденном нести бремя власти ради сохранения шаткого мира. О его благородном враге, обреченном на путь мести. О гении, расписавшем фресками храм Смерти, и его ученике, чье сердце отравлено завистью к таланту своего учителя. Эти герои поведают о закате Цивилизации Общего Берега – древней жемчужины Двух Морей. Как вспыхнувший религиозный конфликт мгновенно разгорелся пожаром войны по всему континенту. Теперь для каждого, кто взял в руки оружие, настало время непростого выбора. Екатерина Звонцова – автор и редактор с десятилетним стажем. Ранее успешно издавалась под псевдонимом Эл Ригби. Екатерина умело создает многогранные миры, к которым никто не остается равнодушным. «Берег мертвых незабудок» – о том, что даже в темные времена можно отыскать свет, а на пепелище рано или поздно вновь вырастут цветы.