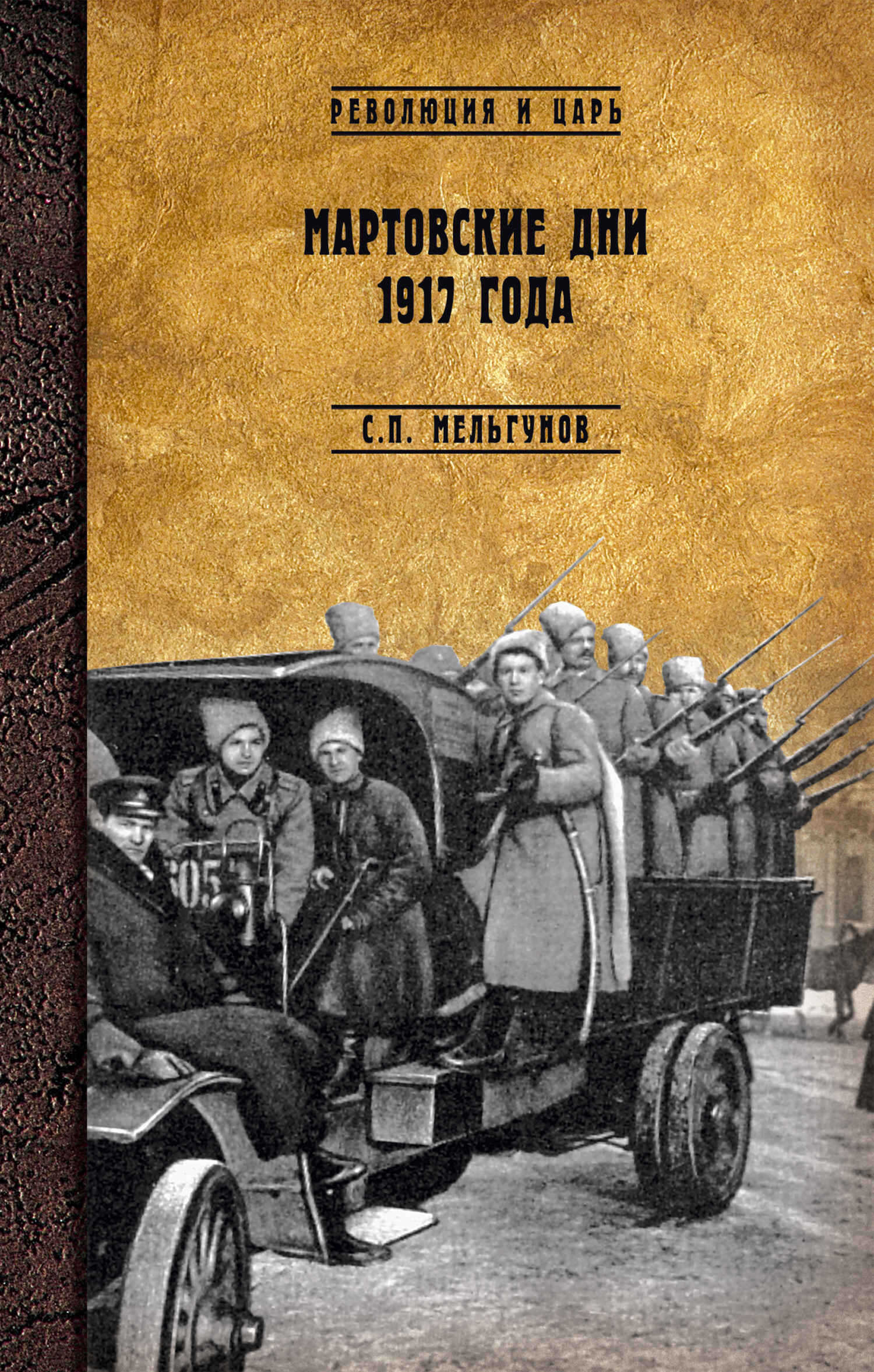Шрифт:
Закладка:
В 20-30-х годах прошлого века страну захлестнула волна криминала. Подняли головы контрреволюционные элементы, процветают бандитизм, убийства и разбой. Чекисты из ОГПУ-НКВД день и ночь ведут смертельную схватку с криминалом… Юг России вот уже десять лет сотрясает серия жестоких убийств. Бандиты убивают без разбора всех – мужчин, женщин, старых и малых. Серийные душегубы, раз изведав человеческой крови, стали как тигры-людоеды – хотят пить ее снова и снова. В ростовском управлении ОГПУ банду окрестили «бесами». Дело «бесов» поручили молодому чекисту Исаю Апухтину. Только принял должность, как сразу пять новых жертв. И никаких зацепок. После нескольких бесплодных попыток выйти на след мокрушников молодому чекисту вдруг повезло: случайный свидетель рассказал, что на станции «Тихорецкая» познакомился с двумя подозрительными мужчинами. Те якобы нанимали работников в совхоз. Но уж больно странно они себя вели. По фотографиям свидетель опознал одного из них – им оказался матерый мошенник-гастролер по кличке Коля Поп. Апухтин начал разработку банды именно с него.