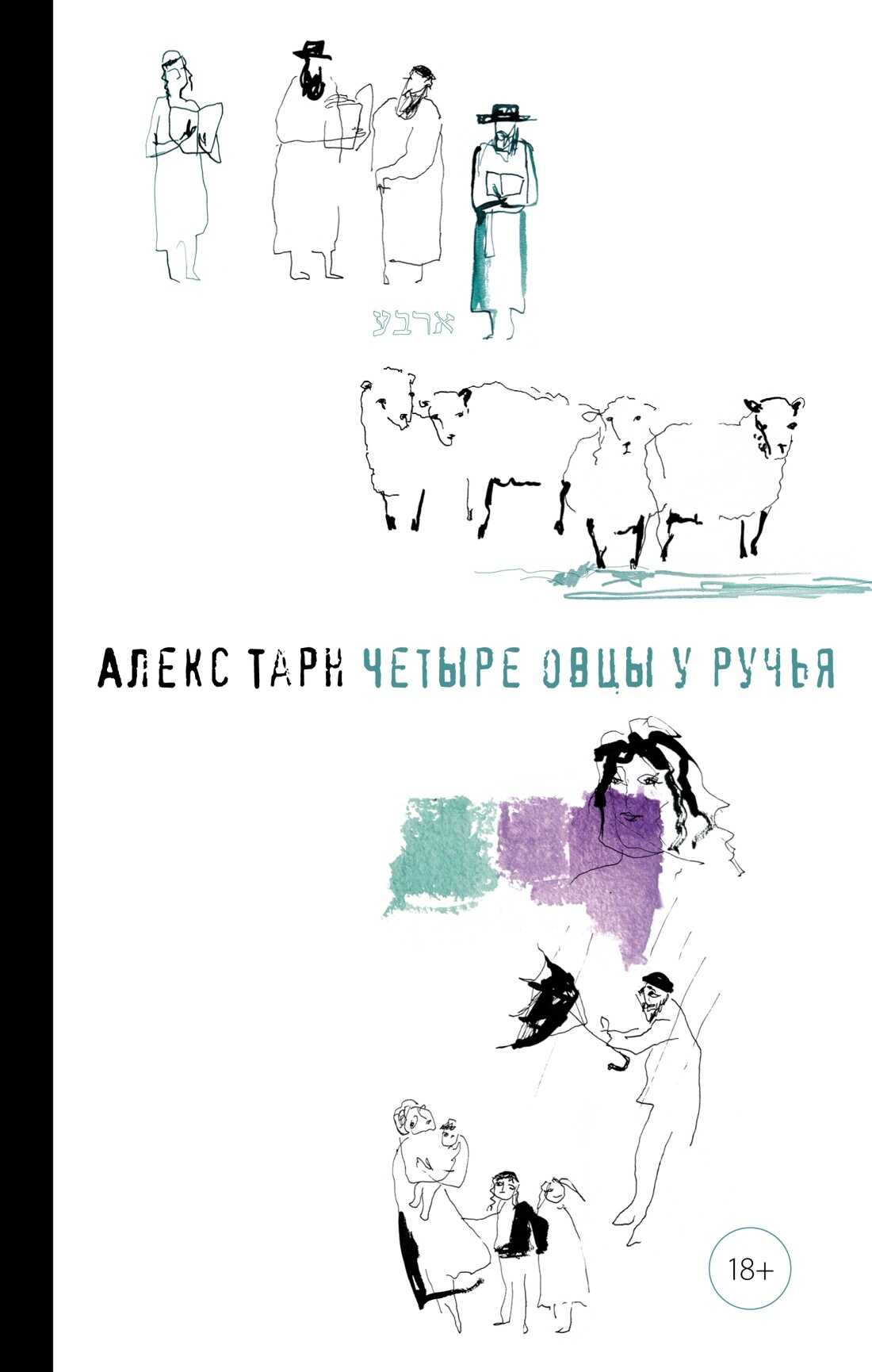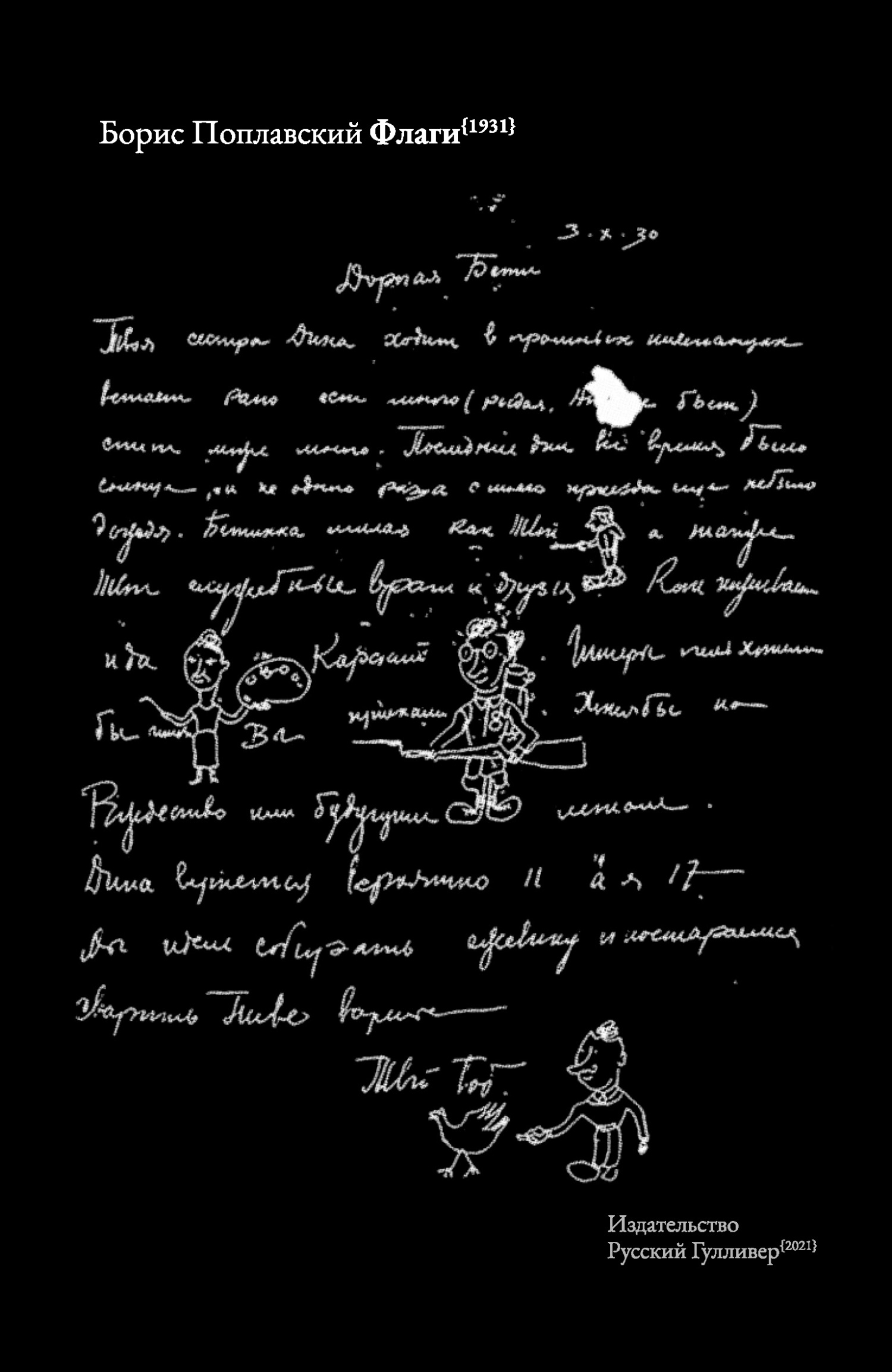Шрифт:
Закладка:
Увлекательный саспенс и интереснейшие философские размышления, эпический размах и пристальное внимание к судьбе каждого героя, живые, остроумные диалоги и неповторимая авторская интонация – все это вы найдете в романе Алекса Тарна «Четыре овцы у ручья».Джамиль Шхаде, один из главарей ХАМАС, умен, коварен и безжалостен. Кэптэн Клайв, офицер Шерута, не уступает ему в уме и проницательности. Он идет за Джамилем шаг в шаг, найти и обезвредить его – дело чести. Но у Клайва есть слабое место – Лейла, сестра Джамиля. Брат использует ее как «живую бомбу» и подсылает к врагу. Но все идет не по плану: вмешивается любовь. А она, как известно, не берет в расчет геополитику.Это могла бы быть история Бонни и Клайда. Или – более романтично – Ромео и Джульетты. Но стала историей Клайва и Лейлы, не похожей ни на какую другую.Но для тех, кто знает притчу о четырех овцах, в финале этой истории нет ничего неожиданного – напиться из ручья и уцелеть смогла лишь та овца, что помнила об осторожности. А всем известно, что как раз это – самое сложное.