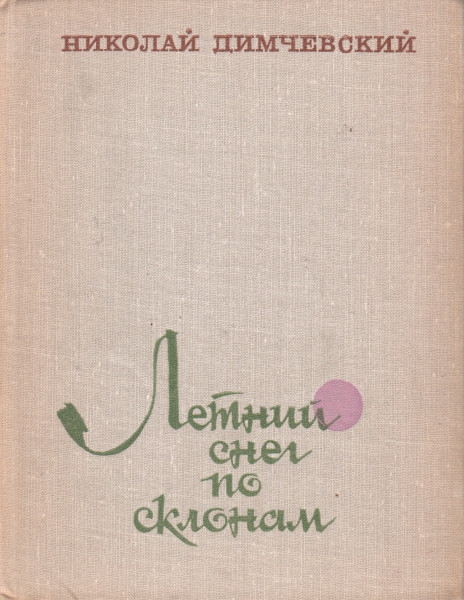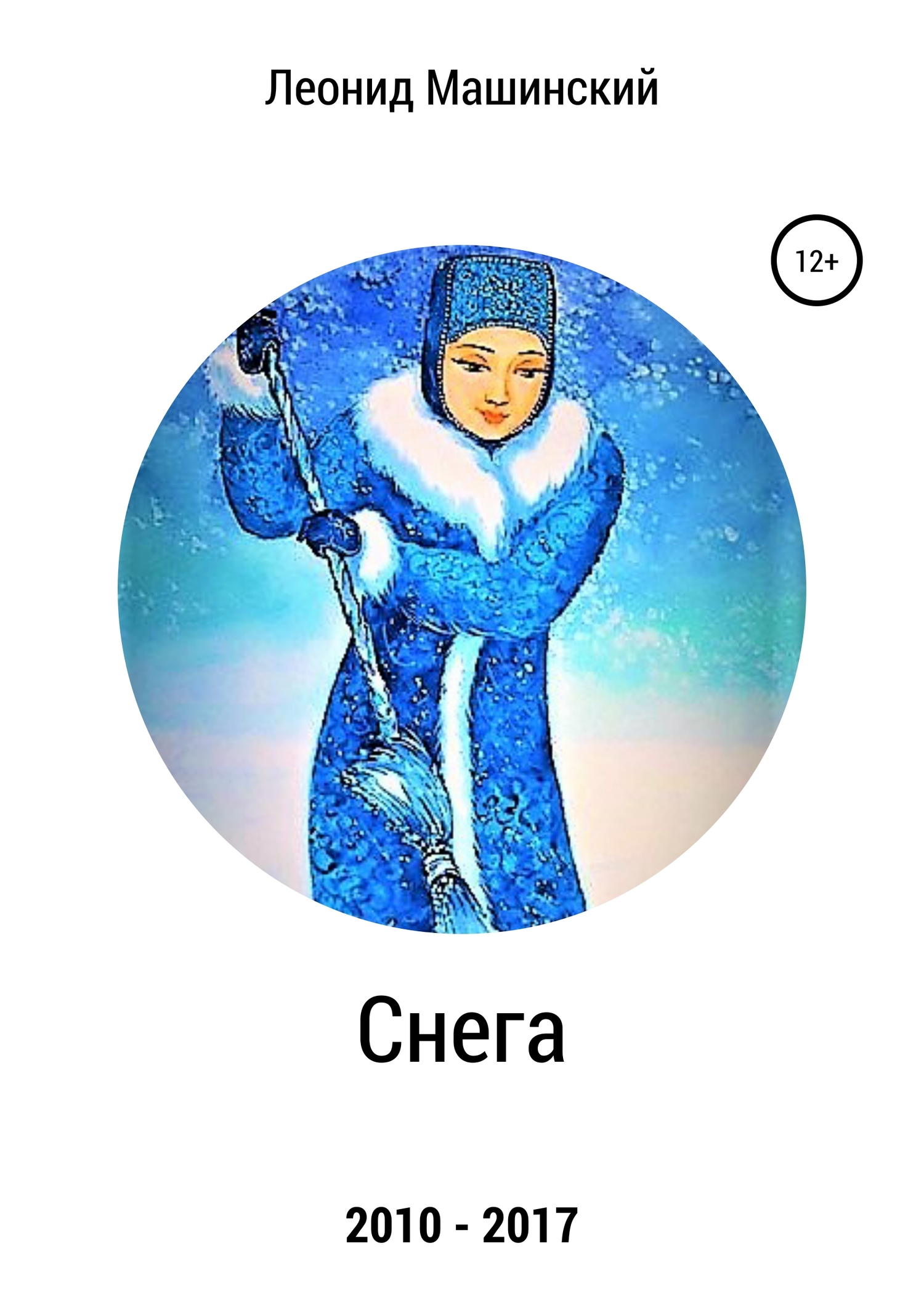Шрифт:
Закладка:
Книга повествует о тружениках Севера. Читая ее страницы, вы словно бы участвуете в разгрузке пограничного транспорта у острова в Тихом океане; пробираетесь через тайгу к створам будущей, самой мощной на Ангаре Богучанской ГЭС; совершаете нелегкий рейс на танкере в низовьях Лены, к морю Лаптевых; кочуете с оленьими стадами в предгорьях Полярного Урала; высаживаетесь с вертолета там, где будет заполярная гидростанция.Перед читателем раскрываются судьбы людей труда — рабочих, речников, оленеводов, изыскателей, моряков, людей, отдающих себя любимому делу, смело вступающих в схватку со стихией и выходящих из нее умудренными, еще более уверенными в своей правоте и силе. Автор показывает героев в переломные, трудные минуты жизни, когда наиболее ярко проступают лучшие стороны советского характера.