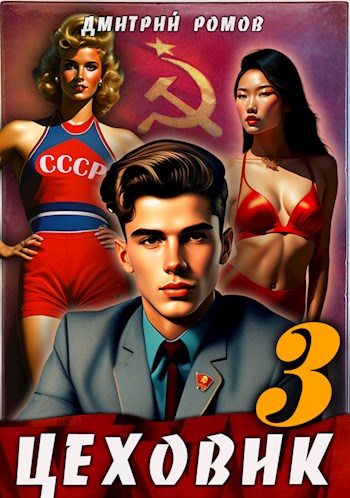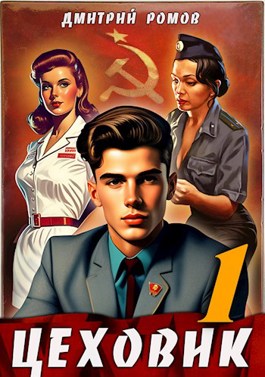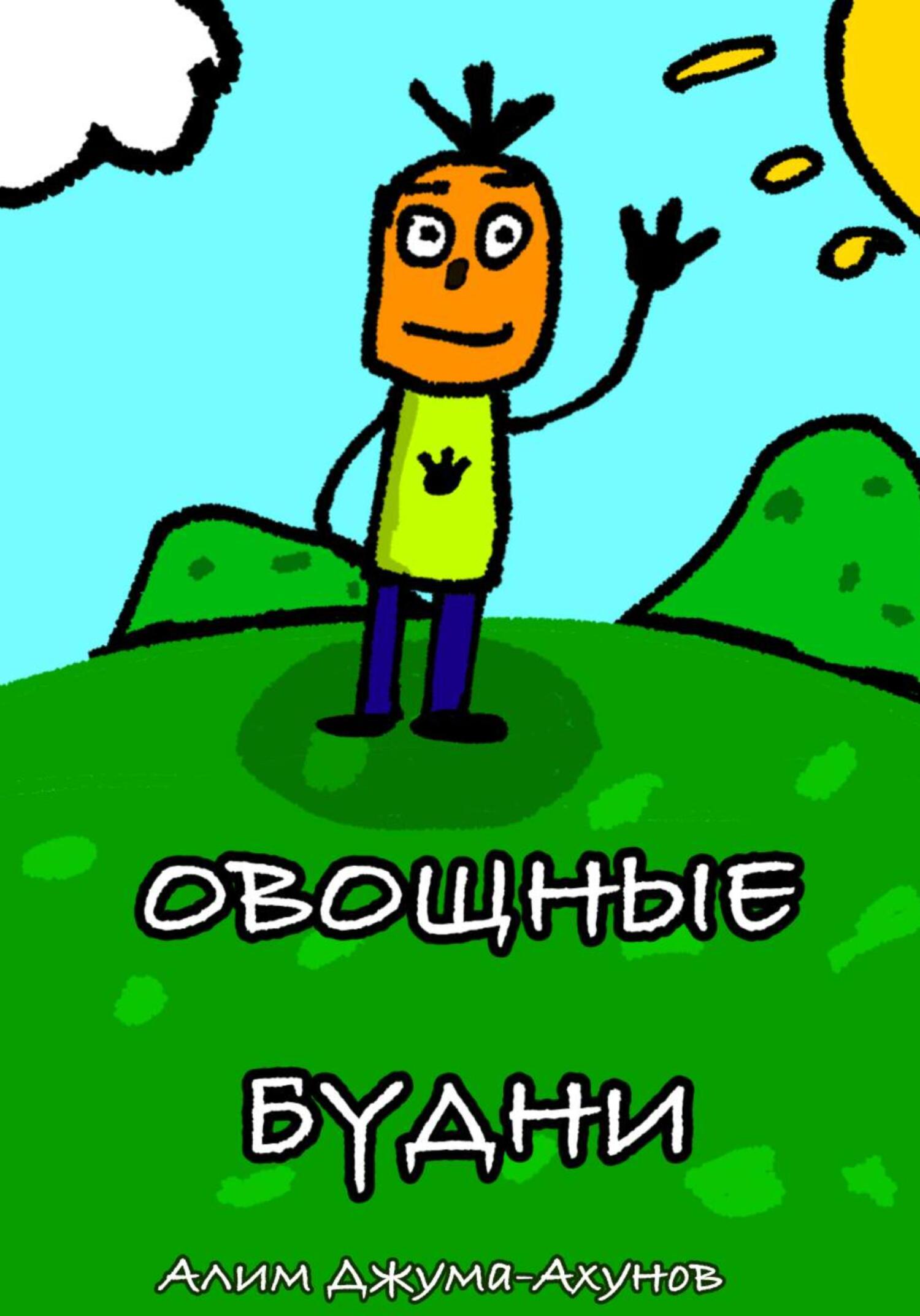Шрифт:
Закладка:
Я мент. Меня достала система и то, как я живу. Эх, прожить бы жизнь заново. Жалко, что это невозможно... Да? Это как повезёт. Меня сбила маршрутка, но я не умер, а оказался в Советском Союзе в теле старшеклассника. Получай, чего хотел – новую жизнь и возможность накрыть шайку расхитителей социалистической собственности. Правда, не всё так просто и тебе придётся сделать сложный выбор. В общем, добро пожаловать в СССР 1980! Новая жизнь, новое тело и, может быть, новое дело.Вторая книга цикла здесь: https://author.today/work/256912Примечания автора:Вот были же времена. Мне и самому хотелось бы вернуться, не только моему герою. Вспоминаю те времена с любовью, хотя было и то, что можно покритиковать. Друзья, приметы эпохи описаны по памяти, если что в деталях напутал, не сердитесь. На сюжет это не влияет. Пришлите, пожалуйста, личное сообщение и вместе исправим. Главное, не будьте слишком строгими )))

![Большие дела [СИ] - Дмитрий Ромов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)