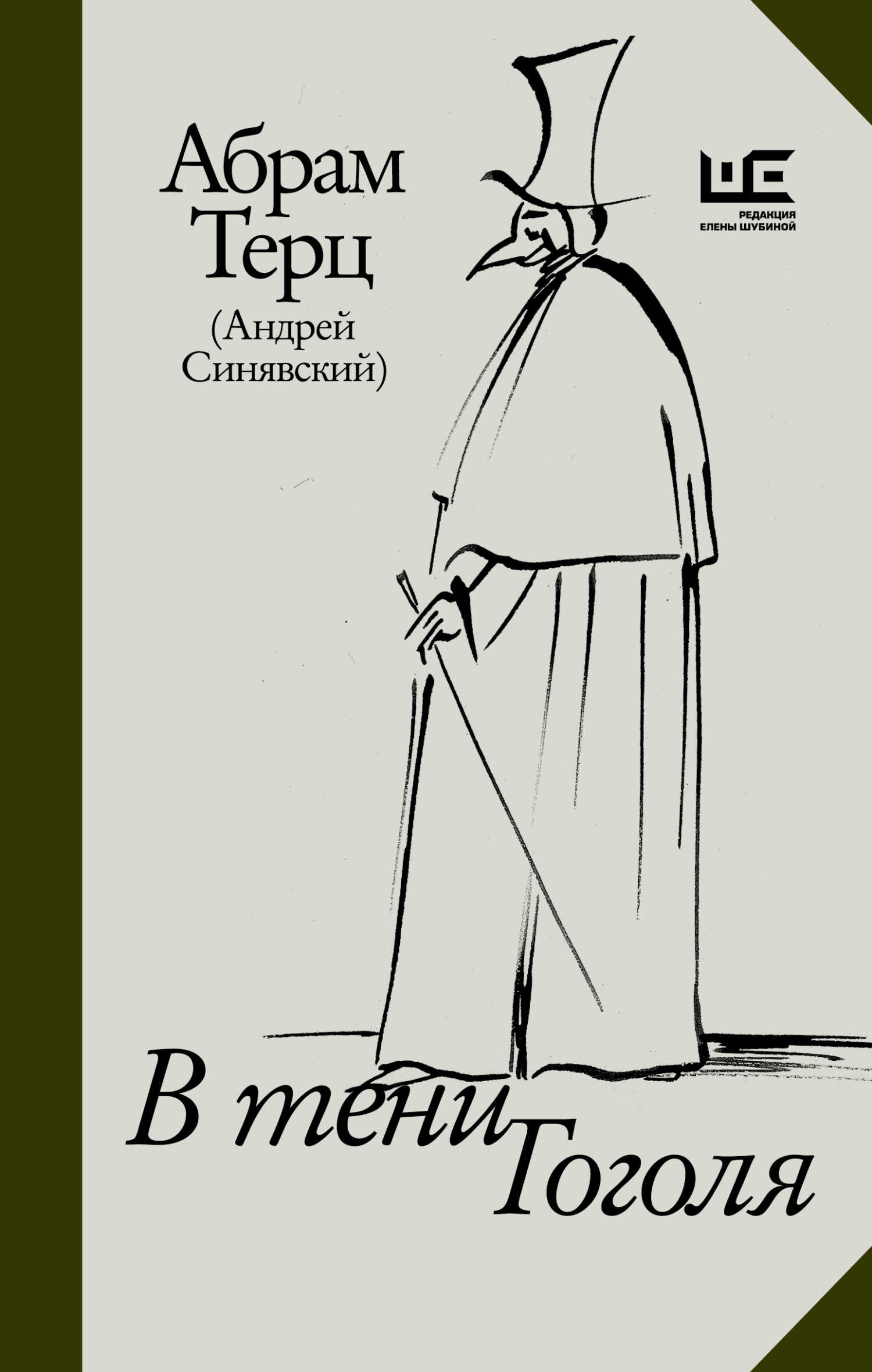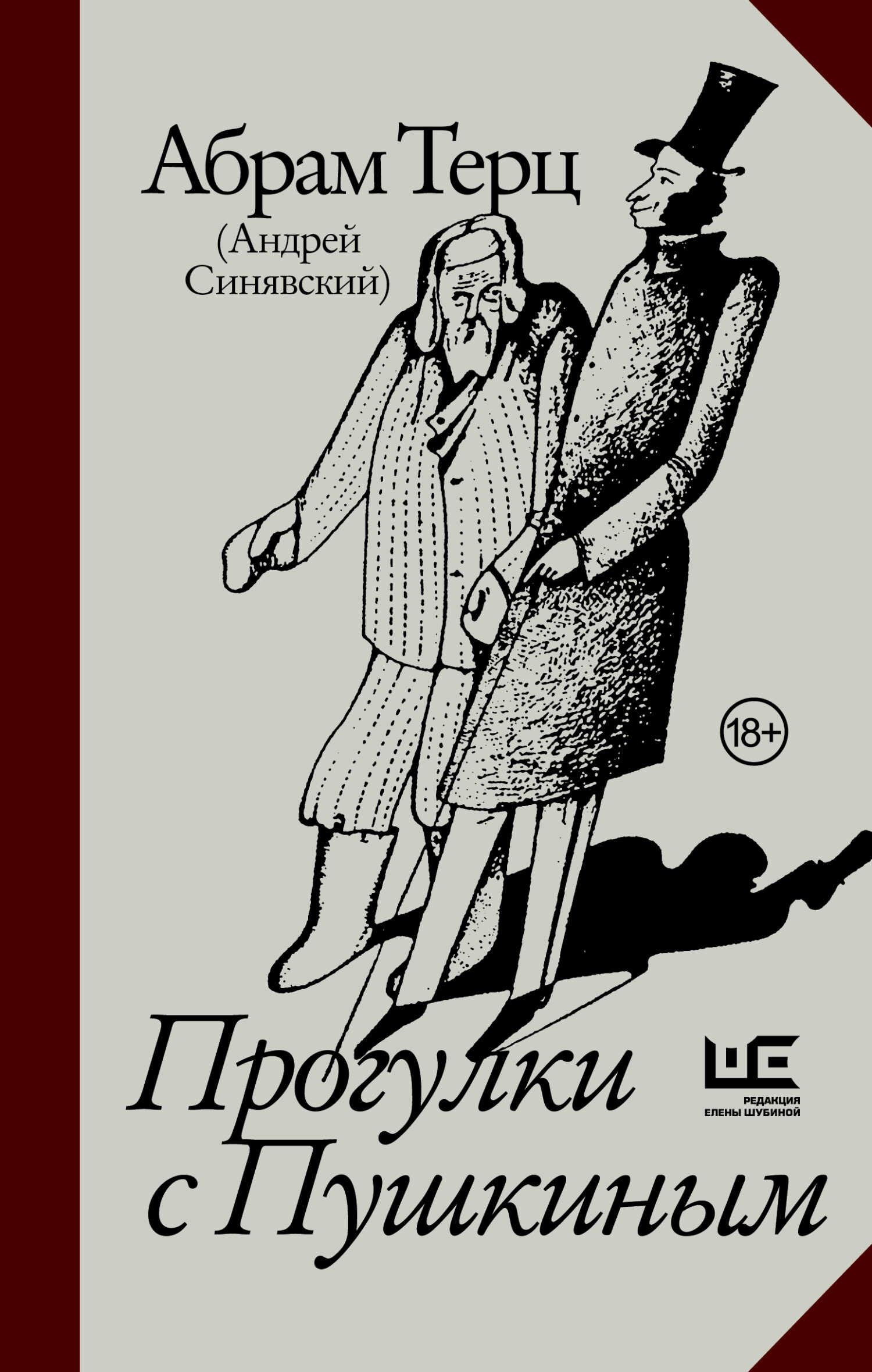Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
“В тени Гоголя” – книга Абрама Терца (литературный псевдоним Андрея Синявского (1925-1997)), в которой талант филолога замечательно сочетается с писательским. Через тайну смерти и жизни писателя, через текст “Ревизора” и “Мертвых душ”, рассказов и писем Терц старается не только рассмотреть творчество и личность Гоголя, но и распутать клубок мифов о нем.“Как уместить в голове два факта, диаметрально лежащие, творческой истории Гоголя? Тот, кто больше всего пугал и тиранил нас, тот же всех пуще смешит. Нет у нас автора страшнее и кошмарнее Гоголя. Нет писателя, который бы так еще заставлял Россию смеяться” (Абрам Терц).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Донатович Синявский»: