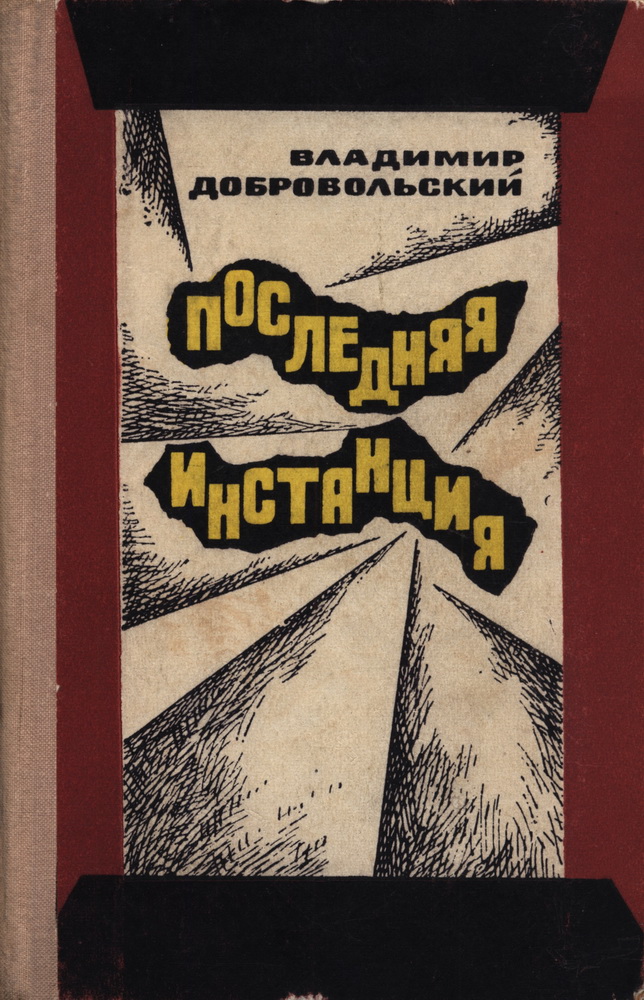Шрифт:
Закладка:
Величайшие биологи прошлого пытались разобраться в том, для чего живым существам нужно половое размножение, как оно возникло, какую пользу принесло и почему не исчезло. В книге «Секс с учеными» рассказывается, как ученые попытались связать секс с мутационным процессом и в результате создали целую область науки – популяционную генетику. Речь заходит о разделении на два пола, в котором ничего нельзя понять без теории игр, и половых хромосомах, вокруг которых закручиваются увлекательные сюжеты из молекулярной биологии. Затем повествование переходит к мейозу, о котором до сих было крайне затруднительно прочитать что-то понятное неспециалистам. В связи с ним затрагивается и важнейший вопрос современной науки – происхождение жизни на Земле. Наконец, нашлось в книге место и для обсуждения роли секса в жизни общества, о которой все вроде бы давным-давно написано, но лишняя пара глав никому не повредит.Будет ли обладать эволюционным преимуществом мутация к бесполому размножению у человека? Девушка, получившая в дар от природы способность беременеть просто так, без всякого внешнего повода, скорее всего, станет большой проблемой для медиков и/или социальных служб. Хотя, конечно, романтические фантазии о новом продвинутом разумном виде вроде «Славных Подруг» из романа братьев Стругацких «Улитка на склоне» тоже имеют право на существование.Для когоДля всех, кто хочет понять, для чего нужно живым существам половое размножение, как оно возникло, какую пользу принесло и почему не исчезло в процессе эволюции. Эта книга для тех, кто интересуется биологией и генетикой и готов вместе с учеными искать ответы на неразгаданные загадки эволюции.Каждый сперматозоид Льва Николаевича нес в себе ровно половину его диплоидного генома. За всю его жизнь тринадцать сперматозоидов слились с тринадцатью яйцеклетками его супруги, так что следующему поколению перешло тринадцать половинок генома писателя.