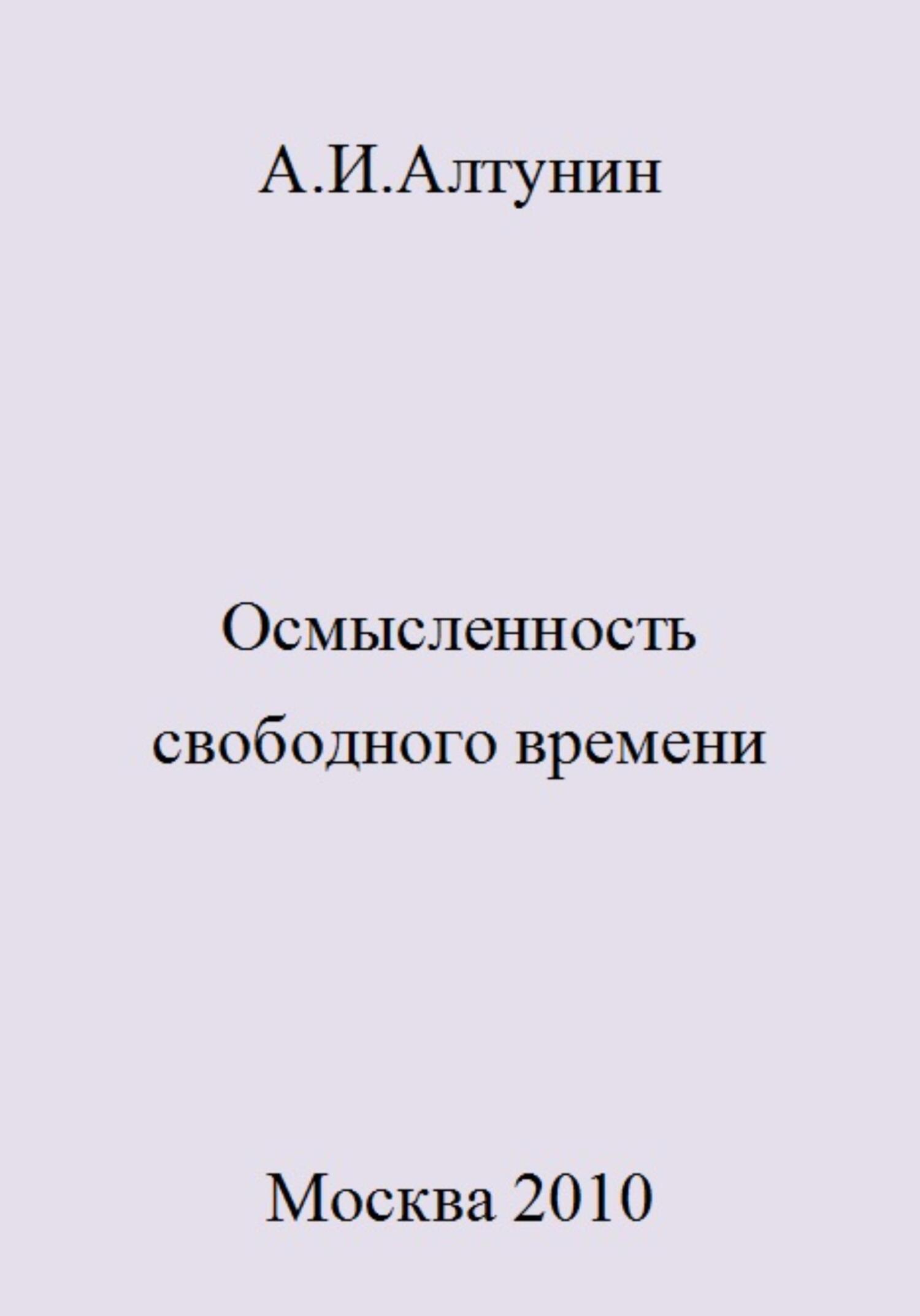Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Обойденные», написанный русским классиком Николаем Лесковым (1831–1895), рассказывает о людях, обойденных счастьем. Они хотят любить и быть любимыми, но совершают ошибки, которые фатально влияют на всю их дальнейшую жизнь. Основная сюжетная линия – история двух сестер, Анны и Доры Прохоровых. Судьба свела их с красавцем Нестором Долинским, и тот никак не может выбрать, которая из сестер ему больше нравится, а вскоре выясняется, что Долинский еще и женат! Вполне обычная история… Но Лесков – особенный повествователь и даже из сюжета, больше подходящего для бульварных романов, способен создать нечто особенное, без лишнего пафоса, наполненное тонким юмором и деталями, точно передающими картину эпохи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Семенович Лесков»: