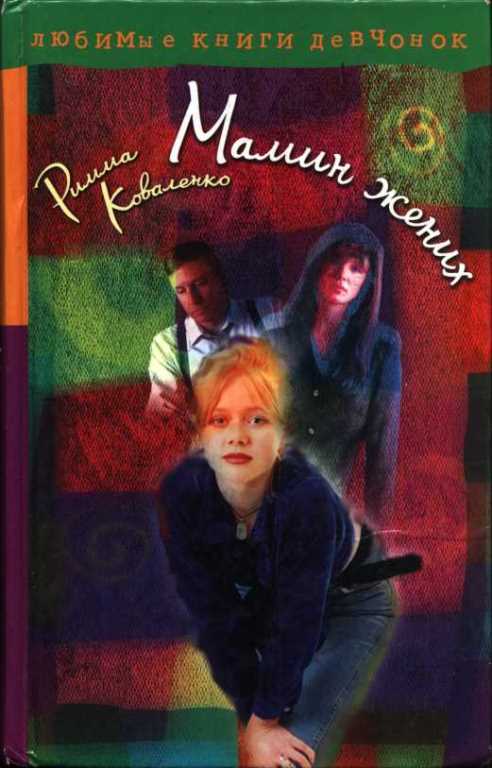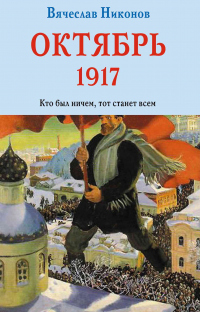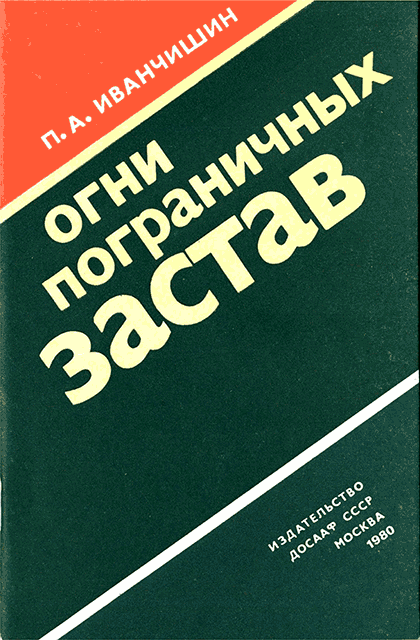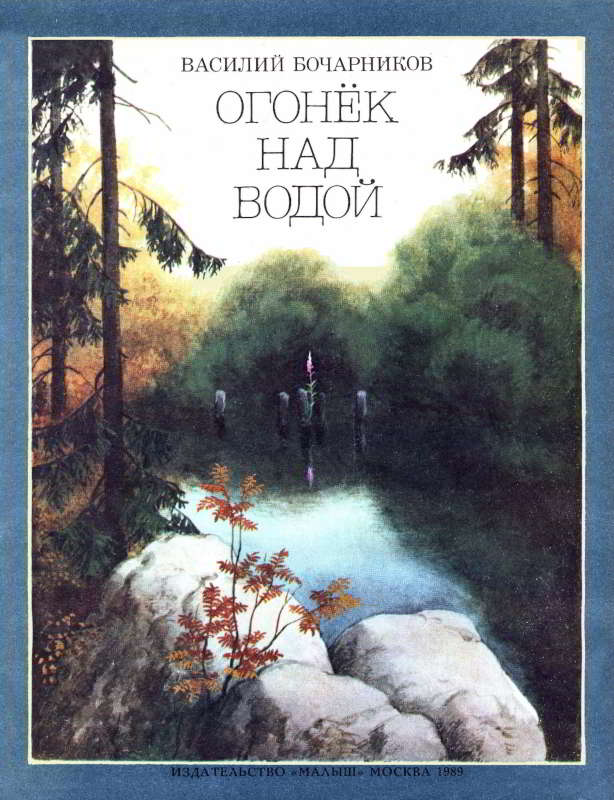Шрифт:
Закладка:
Писательница Римма Коваленко свыше десяти лет проработала корреспондентом «Пионерской правды». Поэтому и ее первые произведения «Ребята с нашего двора» и «Валька Саблин из 5«А» были написаны о детях. Позже вышел ее сборник рассказов «Свой человек, Зойка» и повесть «Пешком в мамино детство». В сборник рассказов «Как было — не будет» вошли произведения писательницы, уже публиковавшиеся на страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Огонек», «Сибирские огни» и др. Р. Коваленко берет реальные, жизненные ситуации, показывает обычные судьбы людей, живущих рядом с нами. Ее героини — женщины с разными судьбами, разными характерами, и молодые, и старые. Молодость — прекрасное время, у нее все впереди, но не менее прекрасны и зрелые годы. Важно, каков он, человек, к какому итогу пришел, прожив большую жизнь, — вот основная мысль, объединяющая все произведения Р. Коваленко.