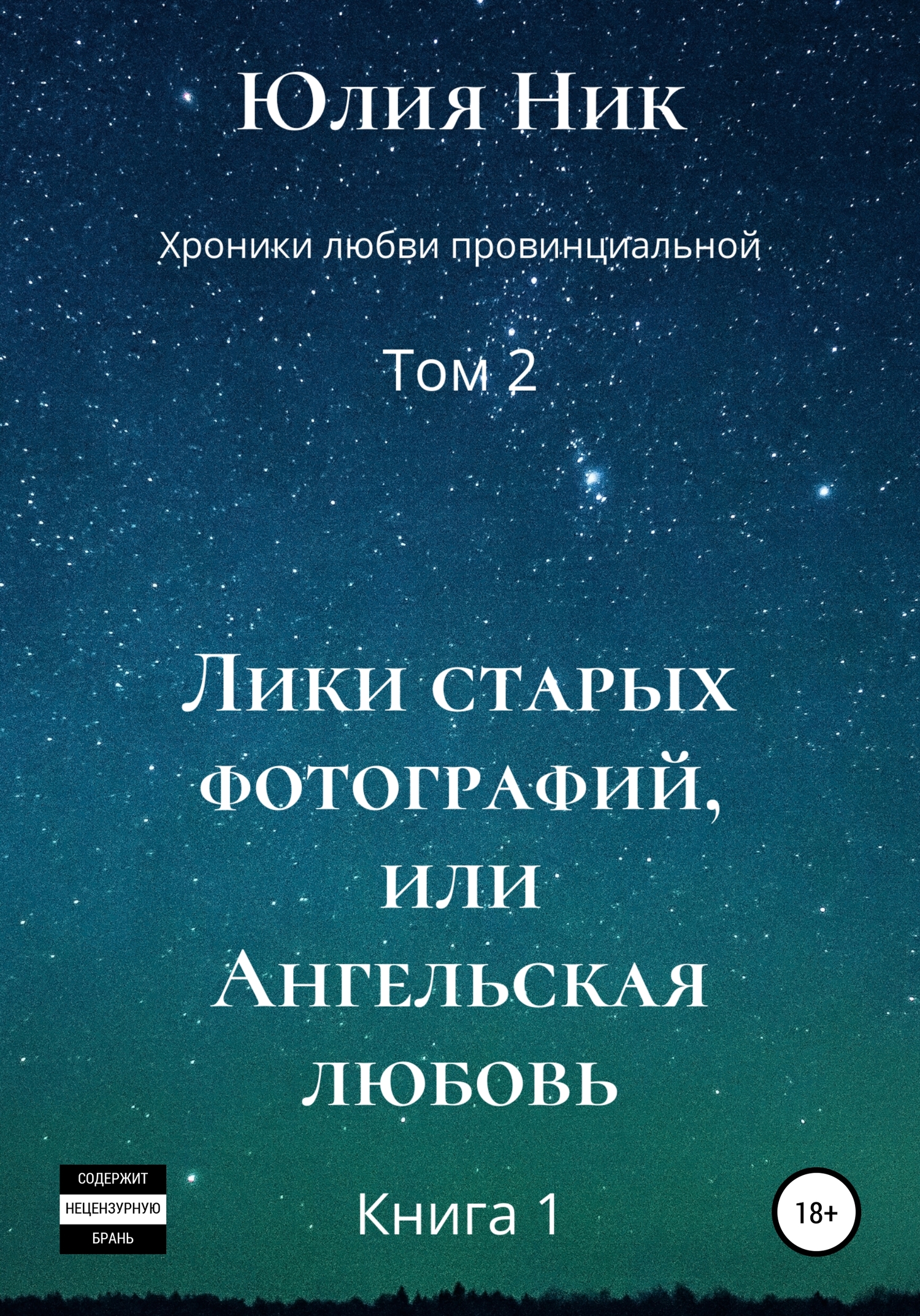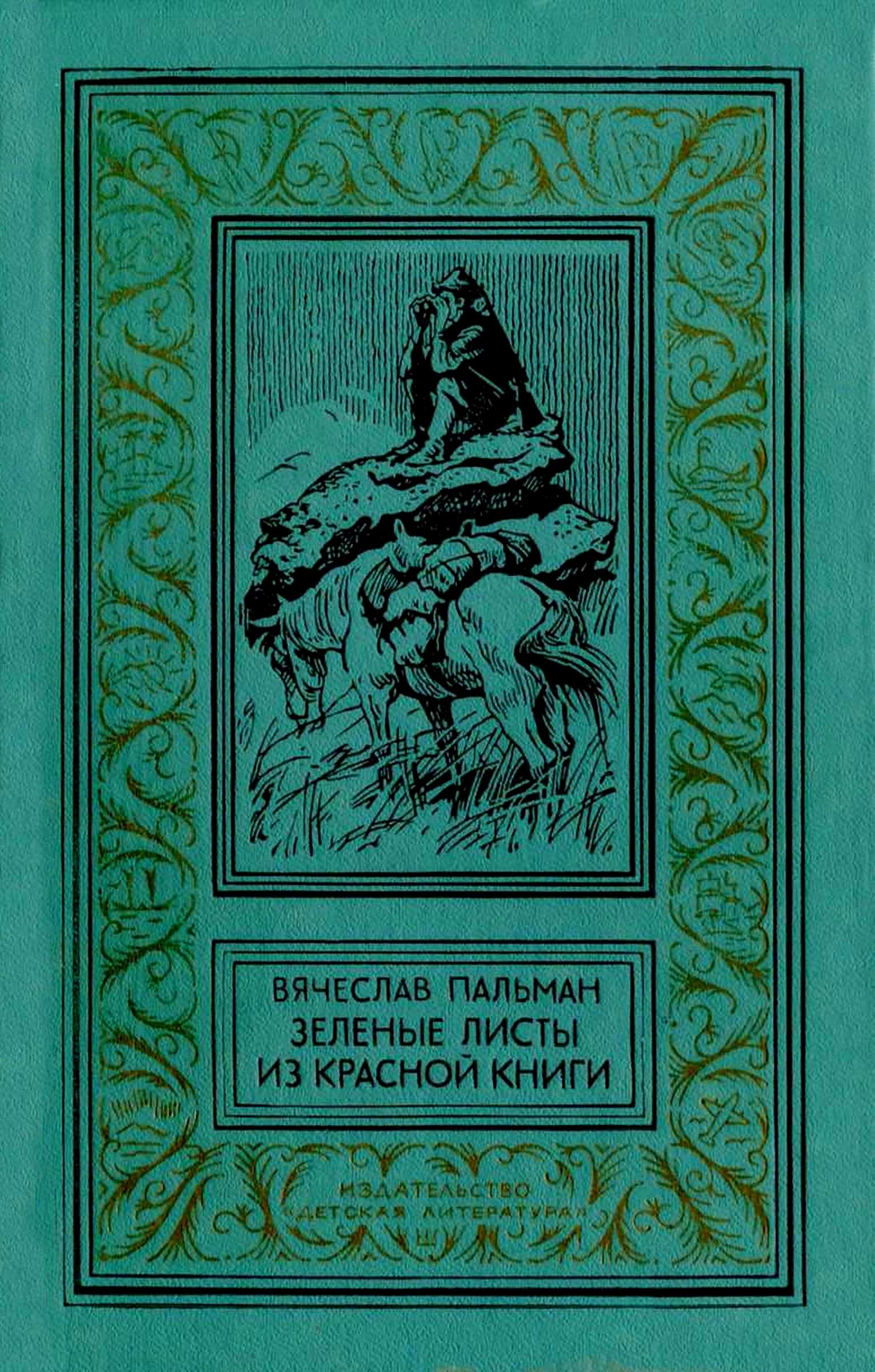Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Автор Юлия Ник, всю жизнь прожившая в знаменитом своей суровостью уральском городе Че, очень рискуя репутацией женщины столь же суровой, начинает публикацию своих «Хроник о любви провинциальной». В Том 1 вошли две «хроники» из седой старины. Между ними пролетели столетия, меняя всё. Но даже тысячелетия не смогут изменить сути любви человеческой, пока жив на земле Человек, для которого любовь – это вечно сверкающая и манящая к себе вершина совершенства человеческих чувств. И то, как ты умеешь любить – самая верная оценка тебе, как человеку. И по ней тебе воздастся судьбой. Все тома этой серии будут петь Гимн Любви. Содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Ник»: