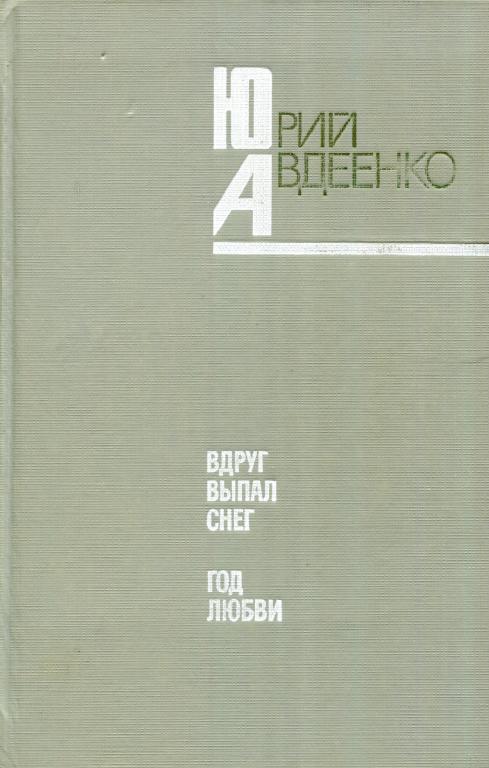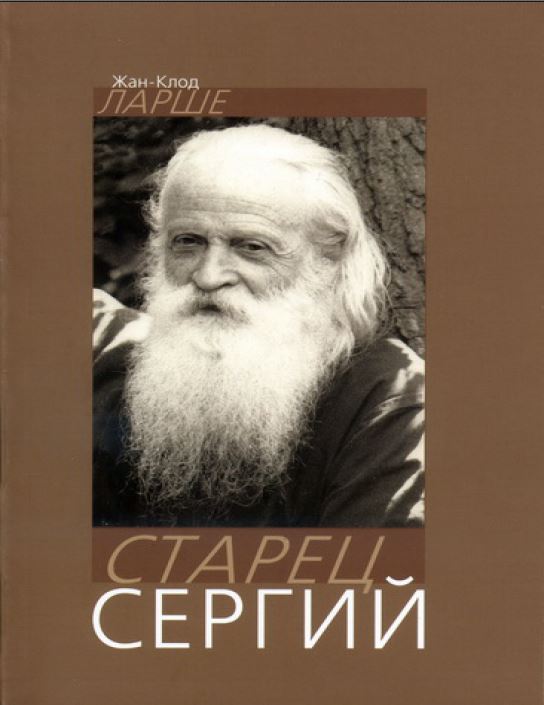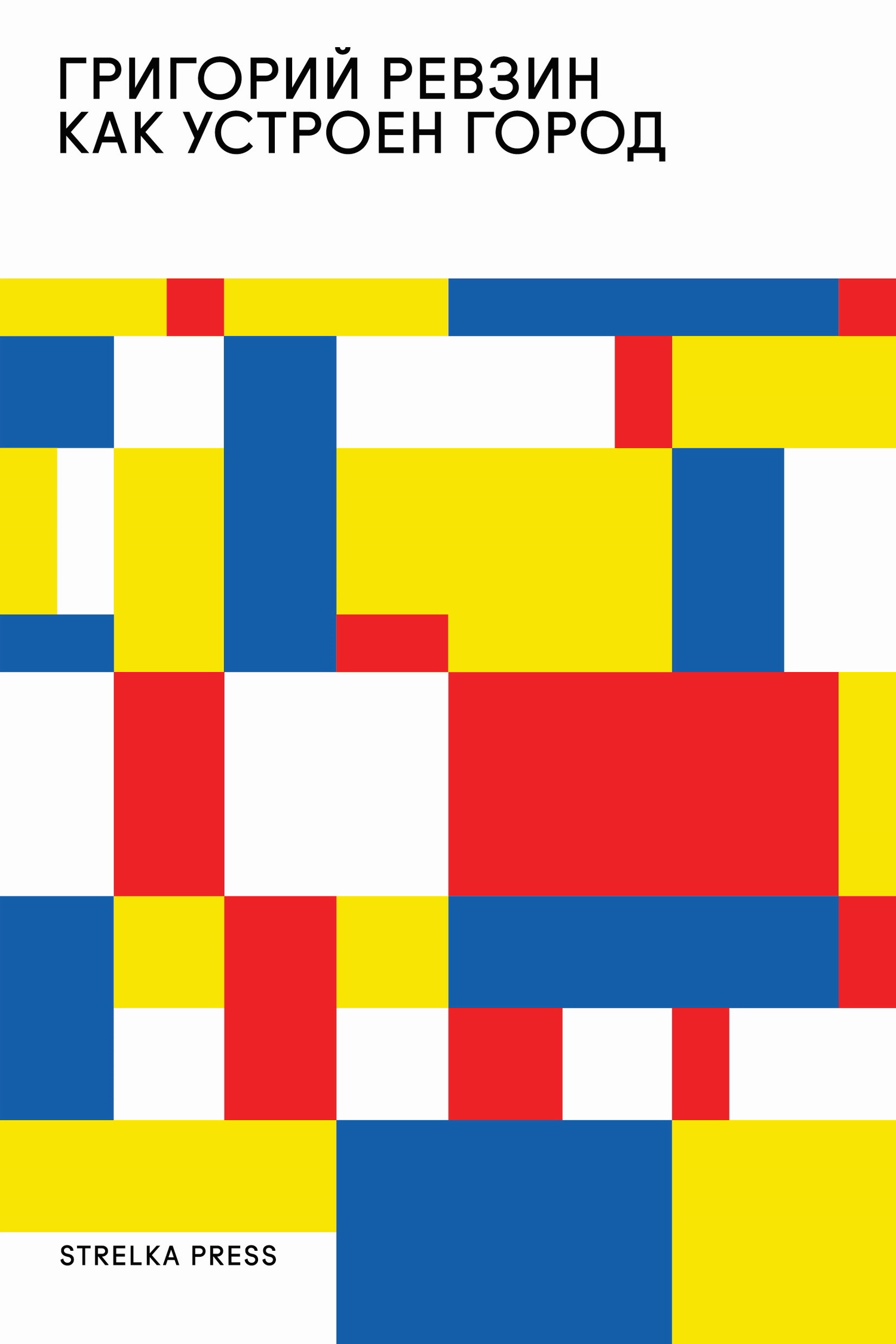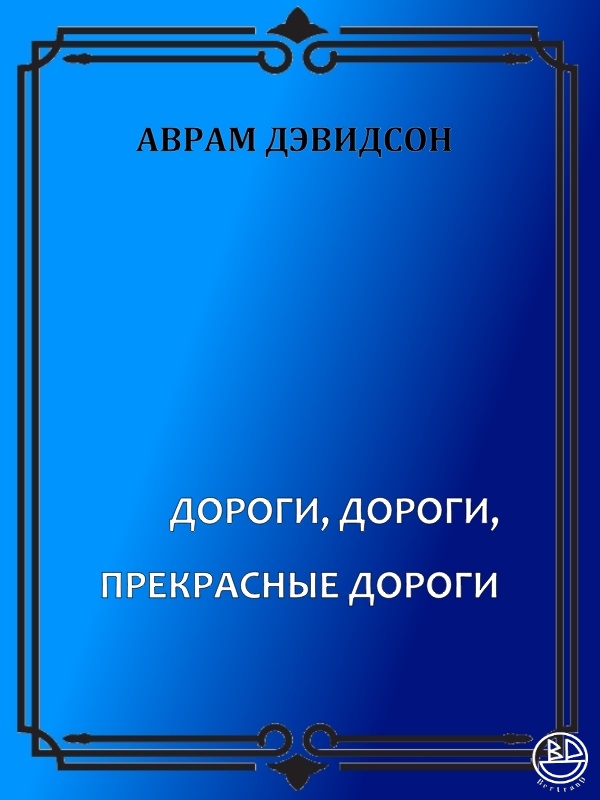Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Действие остросюжетного романа «Вдруг выпал снег» происходит в первые послевоенные годы в небольшом причерноморском городе. Автор рассказывает о непростой судьбе оставшегося без родных семнадцатилетнего парнишки, о становлении его личности, выборе жизненного пути. Роман «Год любви» — о современной армии, о молодых офицерах и солдатах, о заслуженном командире полка.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Николаевич Авдеенко»: