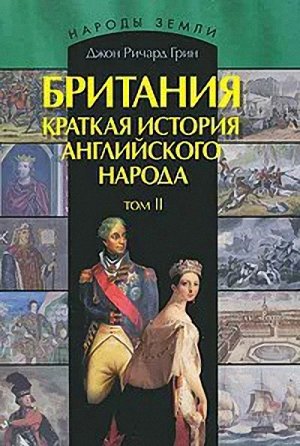Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Предметом этих воспоминаний стал поиск ответа на вопрос о том, как и почему история и коммунизм, объединившись, сформировали и вдохновили жизнь рожденного в Нью-Йорке американского еврея, отец которого вступил в коммунистическую партию США в 1939 году. Мемуары охватывают почти полувековой промежуток периода господства идеологии холодной войны и три континента. Они воссоздают путь открытий и самопознания в годы студенчества в Колумбийском университете, аспирантуры в Оксфорде, поисков в советских архивах, на угольных месторождениях Восточной Украины и в новом независимом Узбекистане.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Льюис Г. Сигельбаум»: