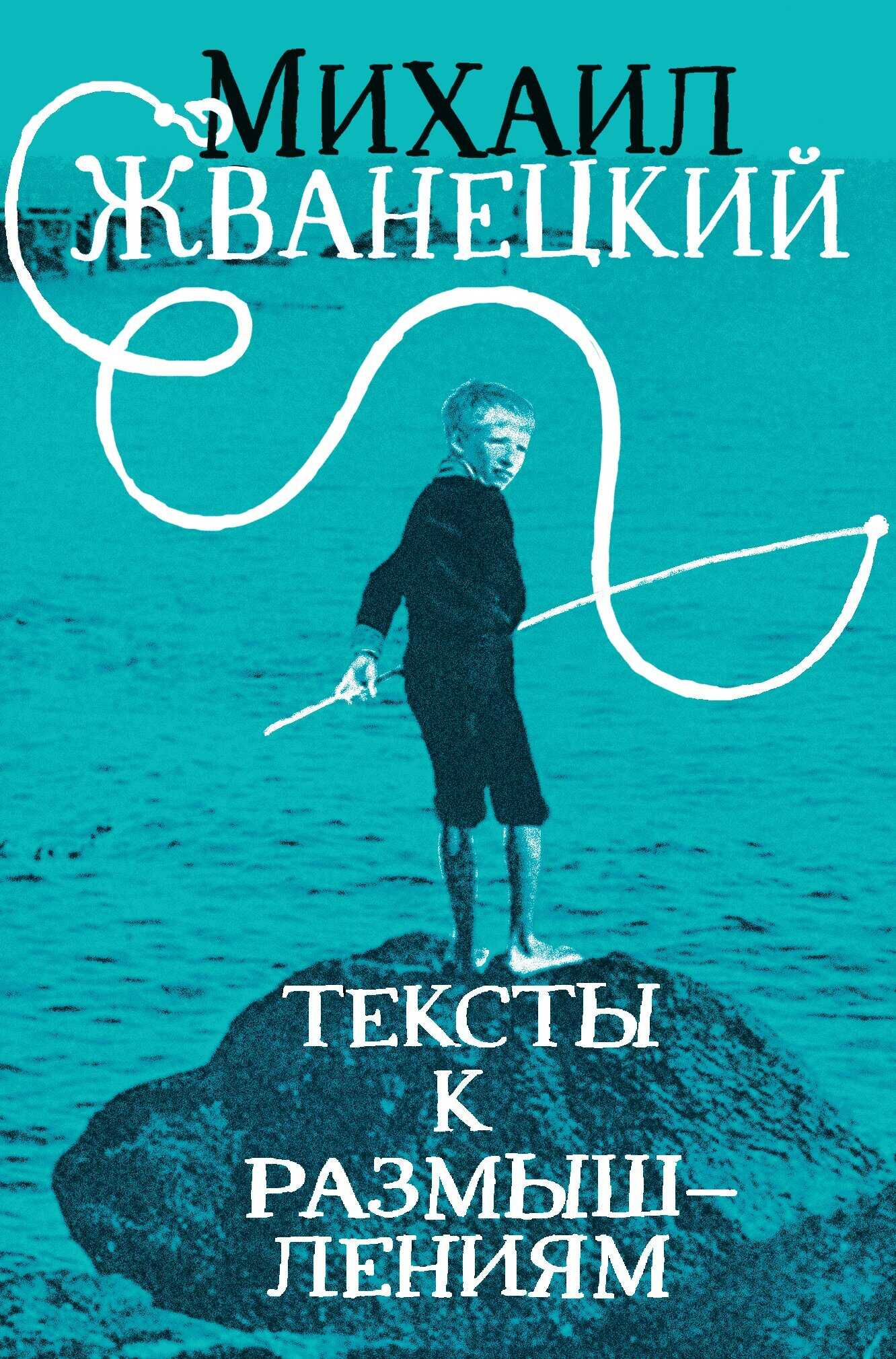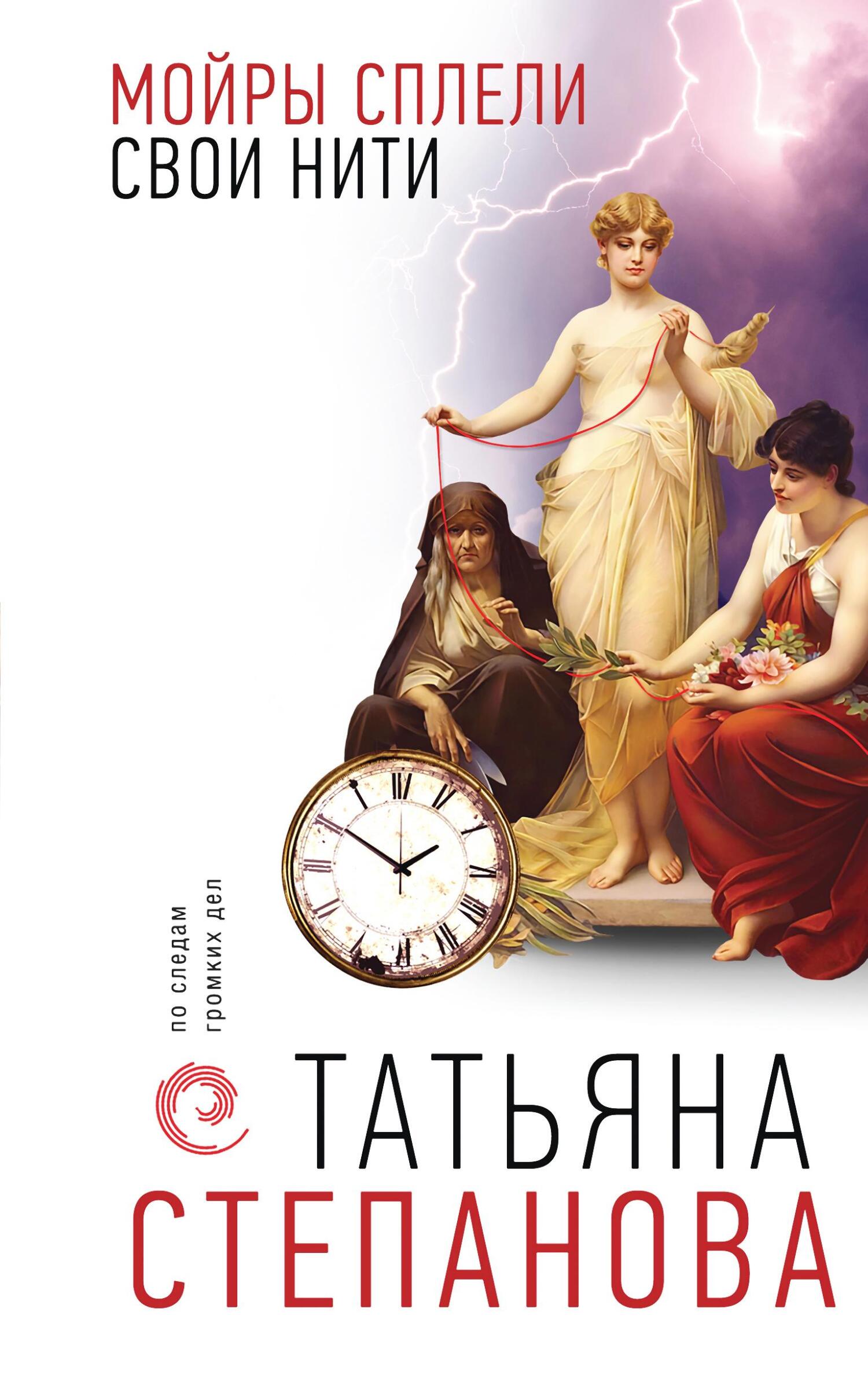Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Неповторимый, узнаваемый, великий народный писатель. Король юмора, дежурный по стране – все это Михаил Жванецкий! В новой книге тонкий юмор автора на абсолютно разные темы: смешные случаи и истории из жизни, отношения мужчин и женщин, молодость и старость, семейное счастье и ностальгия по недалекому прошлому, искренние посвящения друзьям и еще многое другое. Уникальность Михаила Жванецкого – в емкости и точности фраз, в их философской мудрости и в то же время простоте и легкости. «Если бы я мог обмануть себя по-крупному, я был бы счастлив». Его юмор помогает жить, дарит море положительных эмоций, объединяет людей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Михайлович Жванецкий»: