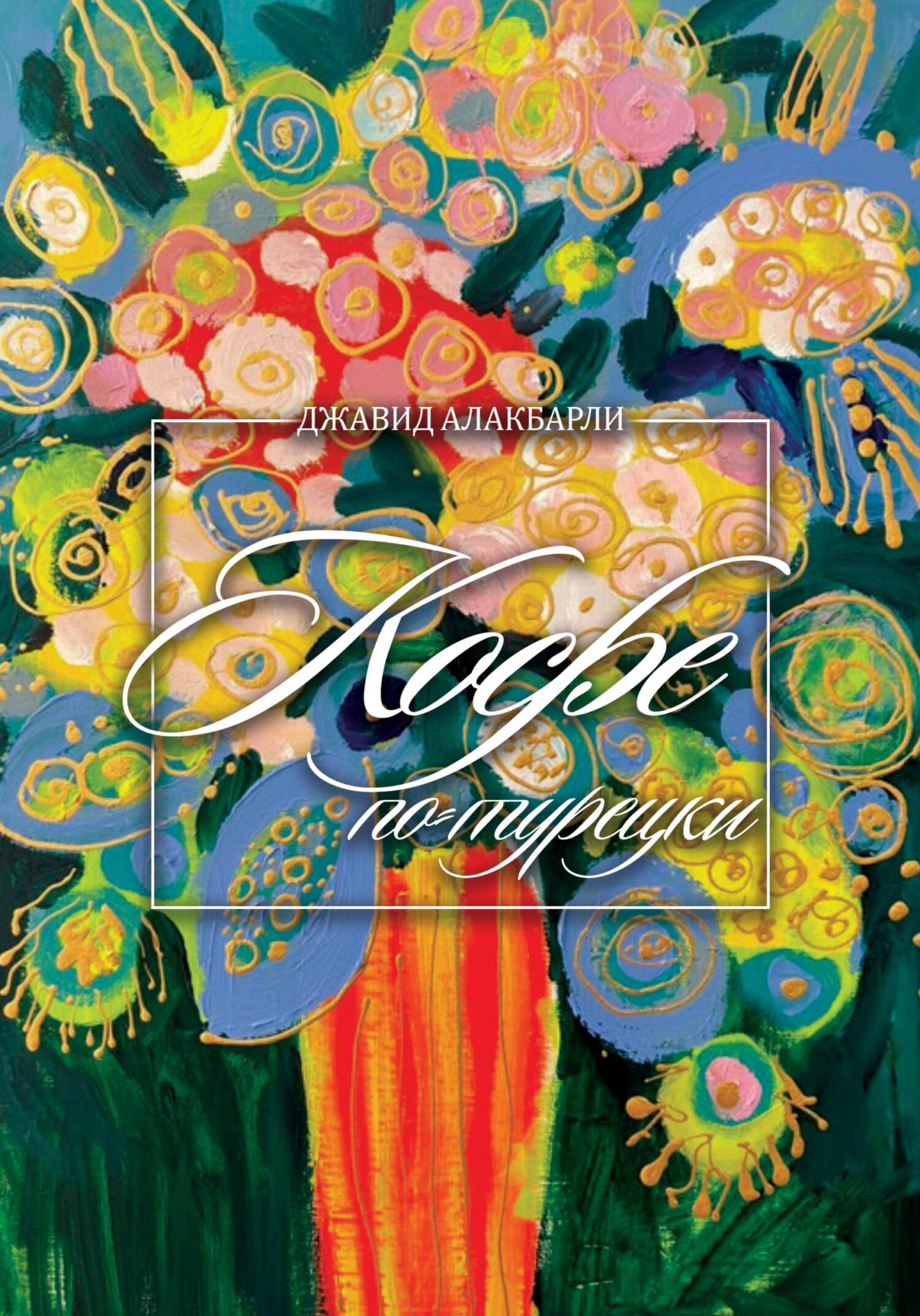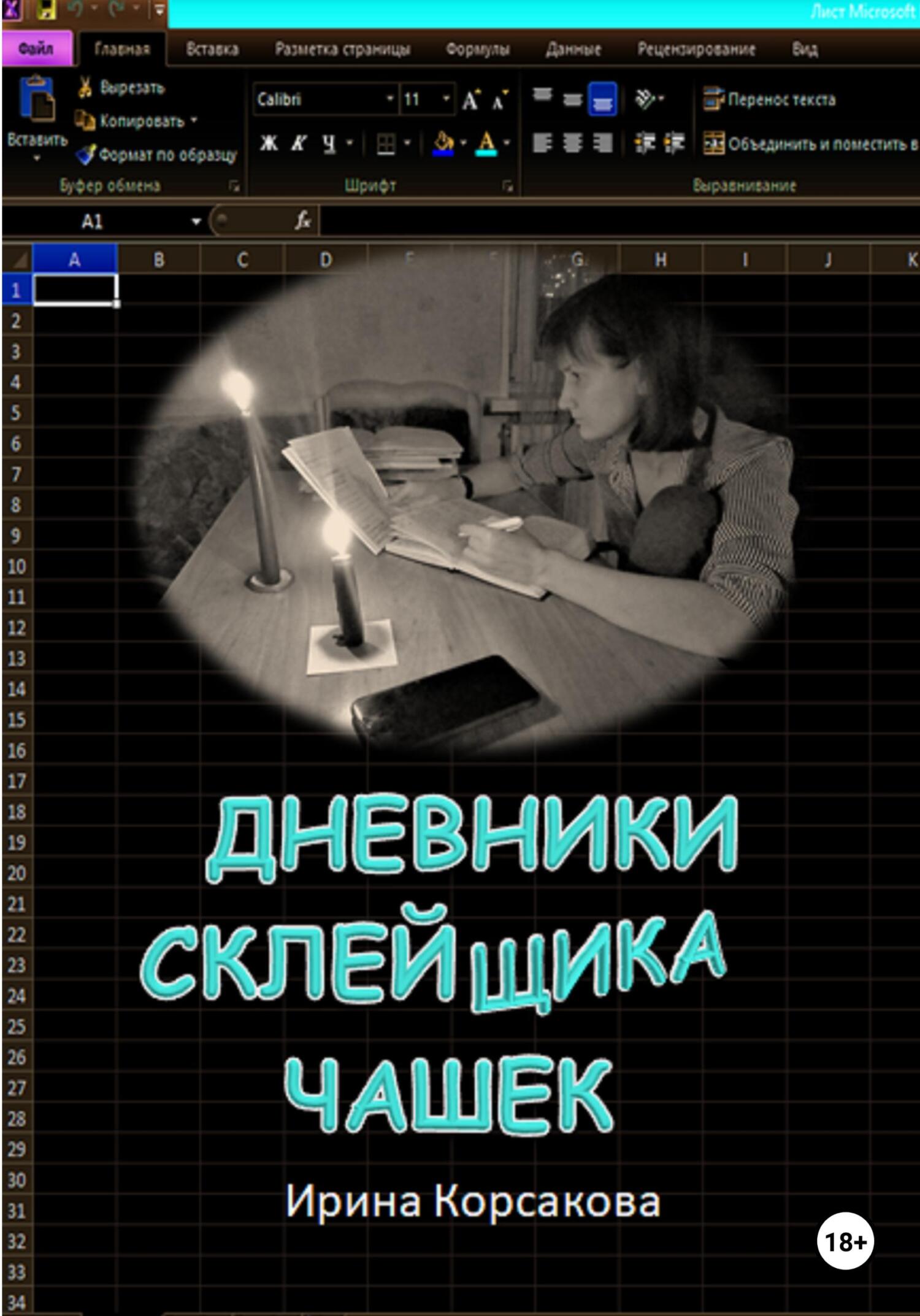Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Две юные блогерши решают стать соавторами и написать роман в жанре психологического триллера. Для достоверности они ищут персонажей в социальных сетях. Но ни главная героиня Маша, ни её соавтор Белка не догадываются, насколько жизнь тесно переплетётся с их текстом и повлияет на их судьбы. Человек, выбранный случайным образом как прототип злодея, всё больше привлекает Машино внимание…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Светлана Васильевна Волкова»: