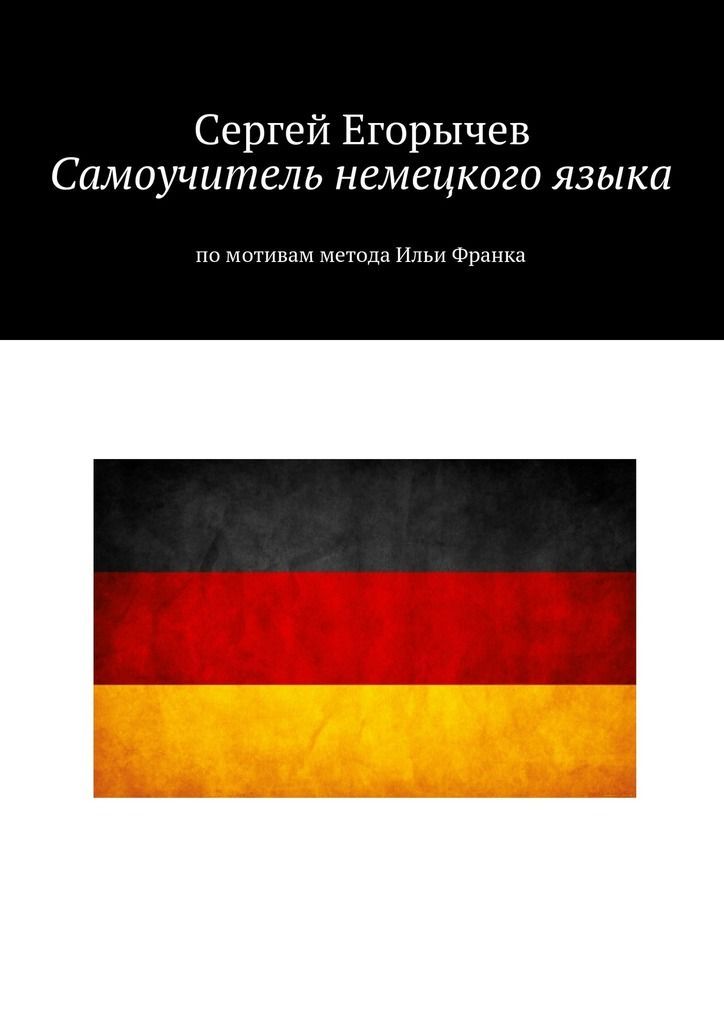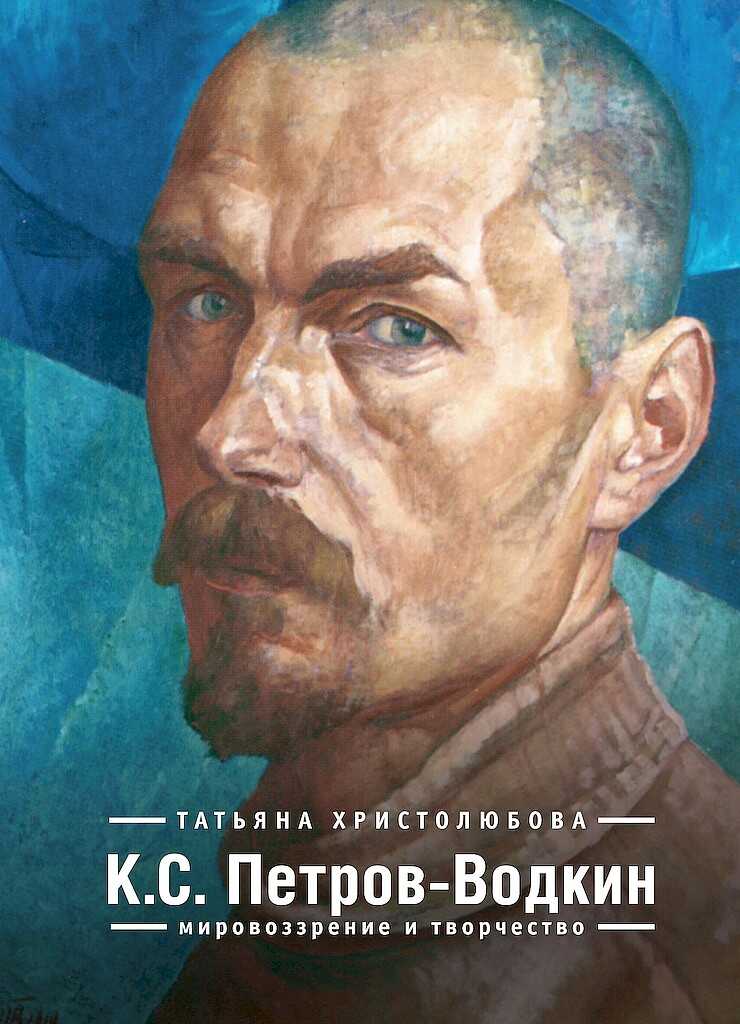Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
А. Акопян и В. Гурин собрали малоизвестные рассказы Ильфа и Петрова, объединили их в единое повествование, и на их основе подготовили третий роман об Остапе Бендере — "Кавалер Ордена Золотого Руна". По словам авторов, 90% текста принадлежат Ильфу и Петрову, а 10% — их отсебятина, позволяющая связать всё в единое целое.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Альберт Акопян»: