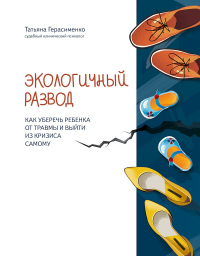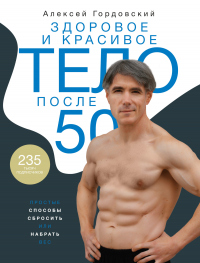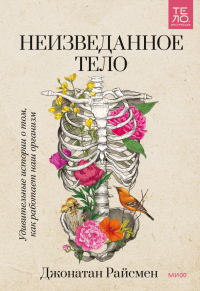Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Когда-то давным-давно демон, желавший земного господства, породил темных дочерей. В тринадцать лет сестер – Голди, Беа, Скарлет и Лиану – разлучили, но пять лет спустя они решили воссоединиться, чтобы открыть свои уникальные способности. Голди – земля, Лиана – вода, Скарлет – огонь, Беа – воздух. И теперь, накануне восемнадцатилетия, каждая из девушек должна пройти обряд посвящения и выбрать сторону добра или зла.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Менна Ван Прааг»: