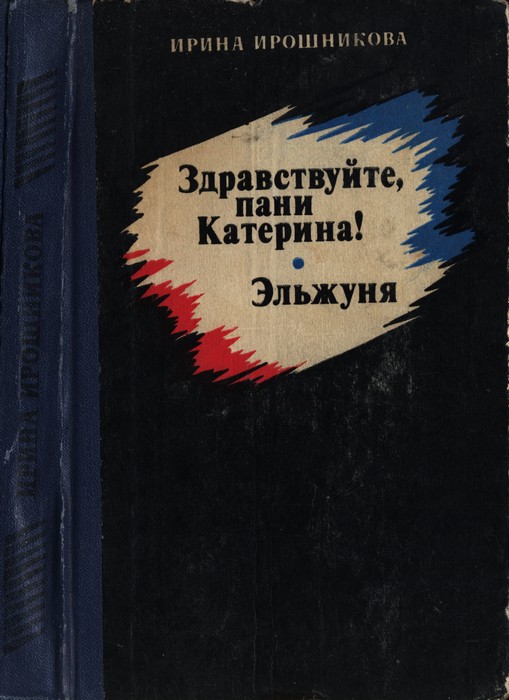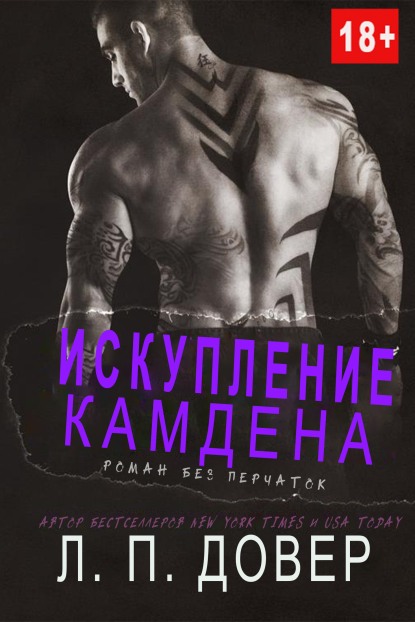Шрифт:
Закладка:
«Здравствуйте, пани Катерина! Эльжуня» — это книга, которая рассказывает о судьбах двух женщин и двух детей, которые оказались в разных странах во время Второй мировой войны. Они — польская учительница Катерина и ее воспитанница Эльжуня, которые попали в советский лагерь для пленных; и русская журналистка Ирина и ее сын Аркадий, которые остались в оккупированном Ленинграде. Они — жертвы и героини, которые пытаются выжить и сохранить человечность в жестоких условиях.
Книга состоит из двух повестей, которые объединены темой: они обе о трагической незащищенности перед лицом войны семьи, материнства, детства. «Эльжуня» является как бы первоосновой повести «Здравствуйте, пани Катерина!», которая была написана позже и стала известной широкому кругу читателей. В обеих повестях автор Ирина Ирошникова показывает не только страдания и бедствия, но и силу духа и веру в лучшее, которые помогают героям пережить тяжелые испытания.
«Здравствуйте, пани Катерина! Эльжуня» — это книга, которая не оставит равнодушным никого, кто интересуется историей и человеческими судьбами. Это книга, которая заставляет задуматься о ценности жизни и любви, о смысле жертвы и отваги, о роли случая и выбора. Это книга, которая учит ценить то, что у тебя есть, и бороться за то, что ты хочешь. Это книга, которая показывает, что любовь может быть как спасением, так и проклятием.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Познакомьтесь с потрясающей книгой «Здравствуйте, пани Катерина! Эльжуня» и узнайте, как закончилась история ее героев.