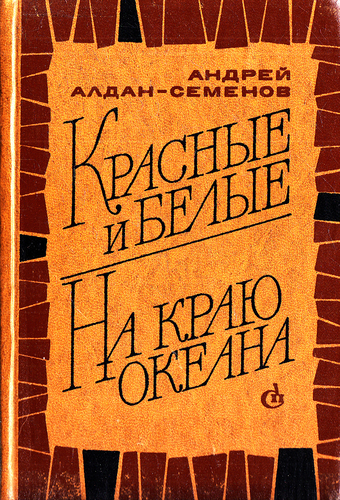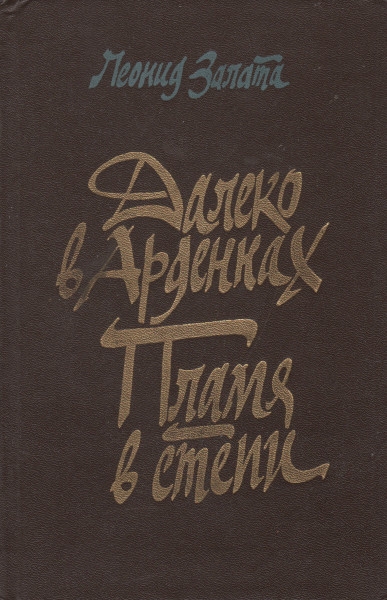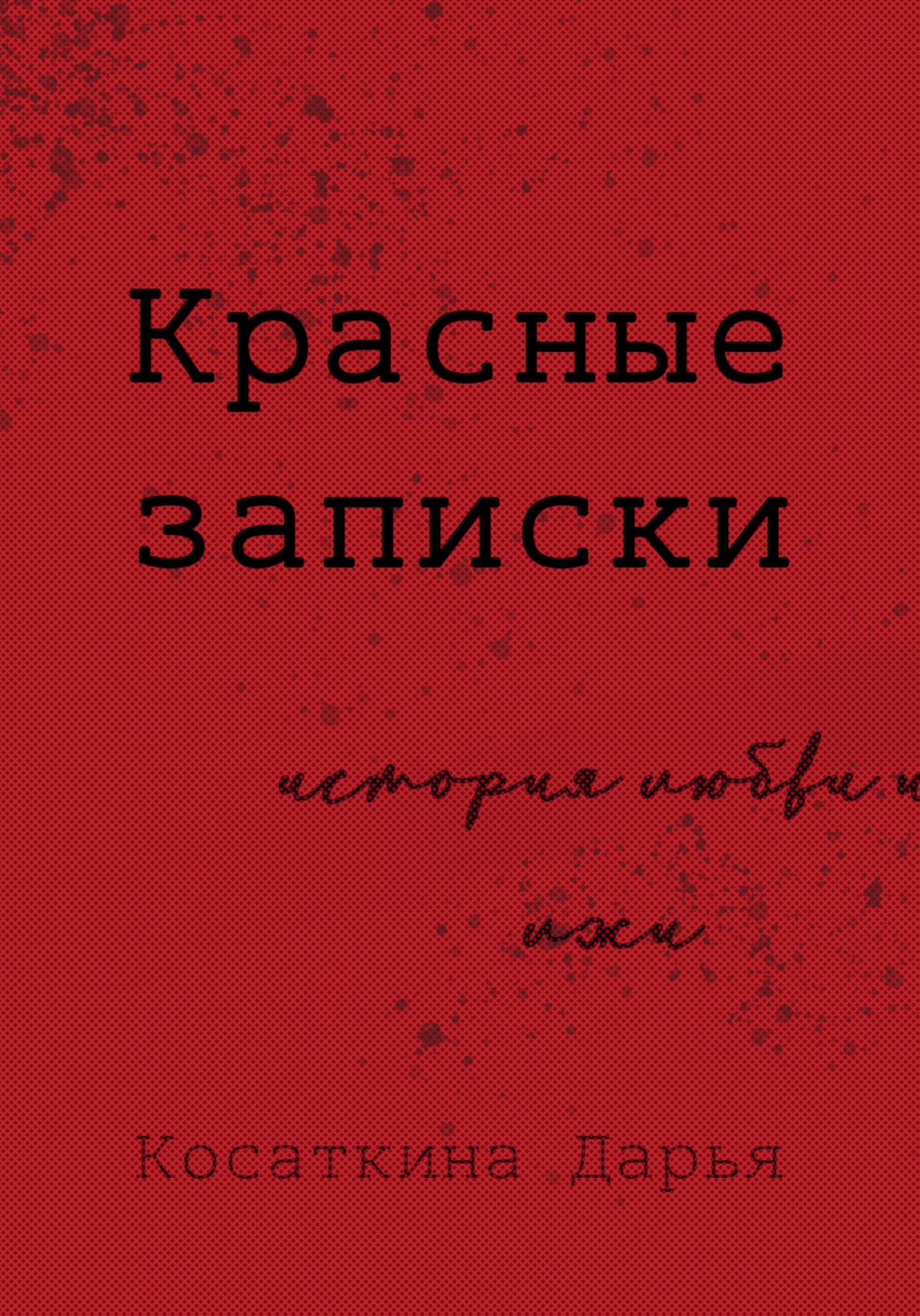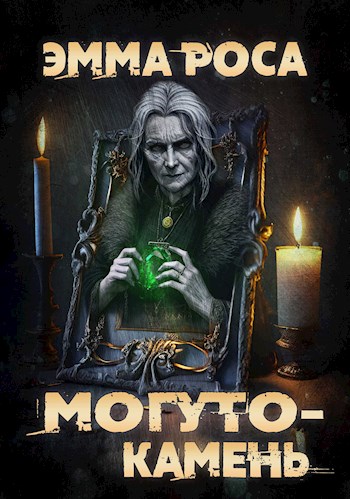Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Христофорович Бенкендорф – самый доверенный человек императора Николая, его неизменный спутник во всех поездках, начальник знаменитого III отделения. Такое положение обязывает быть не только жандармом, но и политиком, дипломатом, шпионом. Приходится и раскрывать заговоры, и самому плести интриги. Неудивительно, что в руках Бенкендорфа переплетаются нити судеб целого света: высшего общества обеих российских столиц, да и Варшавы – тоже. От Бенкендорфа зависит даже жизнь самого государя, и это не просто слова, поэтому нужно обладать истинным благородством и огромным чувством долга, чтобы использовать такую власть не для себя, а во благо Отечества.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Игоревна Елисеева»: