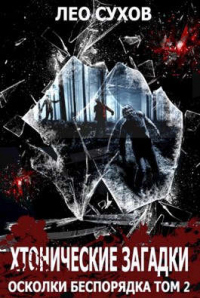Шрифт:
Закладка:
Вы мечтаете о путешествии по космосу, о знакомстве с другими расами и цивилизациями, о приключениях и романтике? Вы хотите узнать, что скрывается за таинственным названием «Чужбина с ангельским ликом»? Тогда эта книга для вас!
Лариса Кольцова – известная писательница в жанре космической фантастики и эротических романов – представляет вашему вниманию четвертую книгу цикла «Три жизни трёх женщин Венда». Это история Алины, дочери землянина и вендки, которая провела семь лет на одном из загадочных островов планеты Тон-Ата. Она не знает, что она – внучка жрицы Матери Воды, одной из самых могущественных и таинственных сил во Вселенной.
Её жизнь меняется, когда она возвращается в родную столицу планеты Паралея. Одна, без родных, без поддержки, с утраченными иллюзиями юности, она вынуждена работать ради выживания. И однажды вместо ожидаемой тусклости и личного одиночества вновь просияла манящая даль будущего, дверь в которое опять распахнул перед ней казалось, утерянный избранник – человек с планеты Земля.
Вместе они попадают в эпицентр космической интриги, которая угрожает не только им, но и всей галактике. Им придётся сражаться с врагами, искать союзников и разгадывать тайны своего происхождения. Им придётся выбирать между любовью и долгом, между свободой и судьбой.
Эта книга – захватывающее путешествие по мирам Ларисы Кольцовой, полное приключений, опасностей и романтики. Это книга для тех, кто любит фантастику с душой и эротикой с умом. Вы можете читать её онлайн на сайте knizhkionline.com. Приятного чтения!