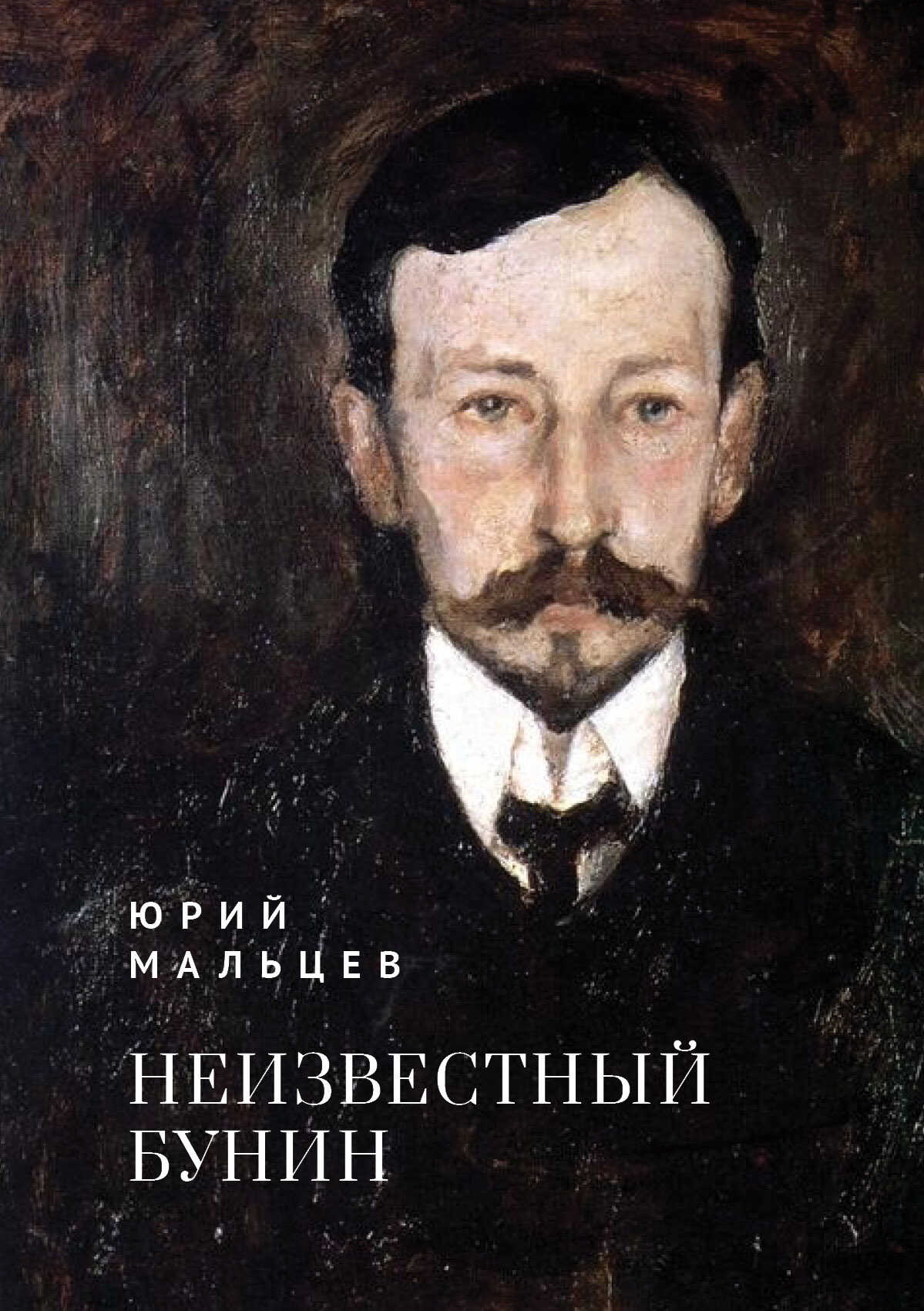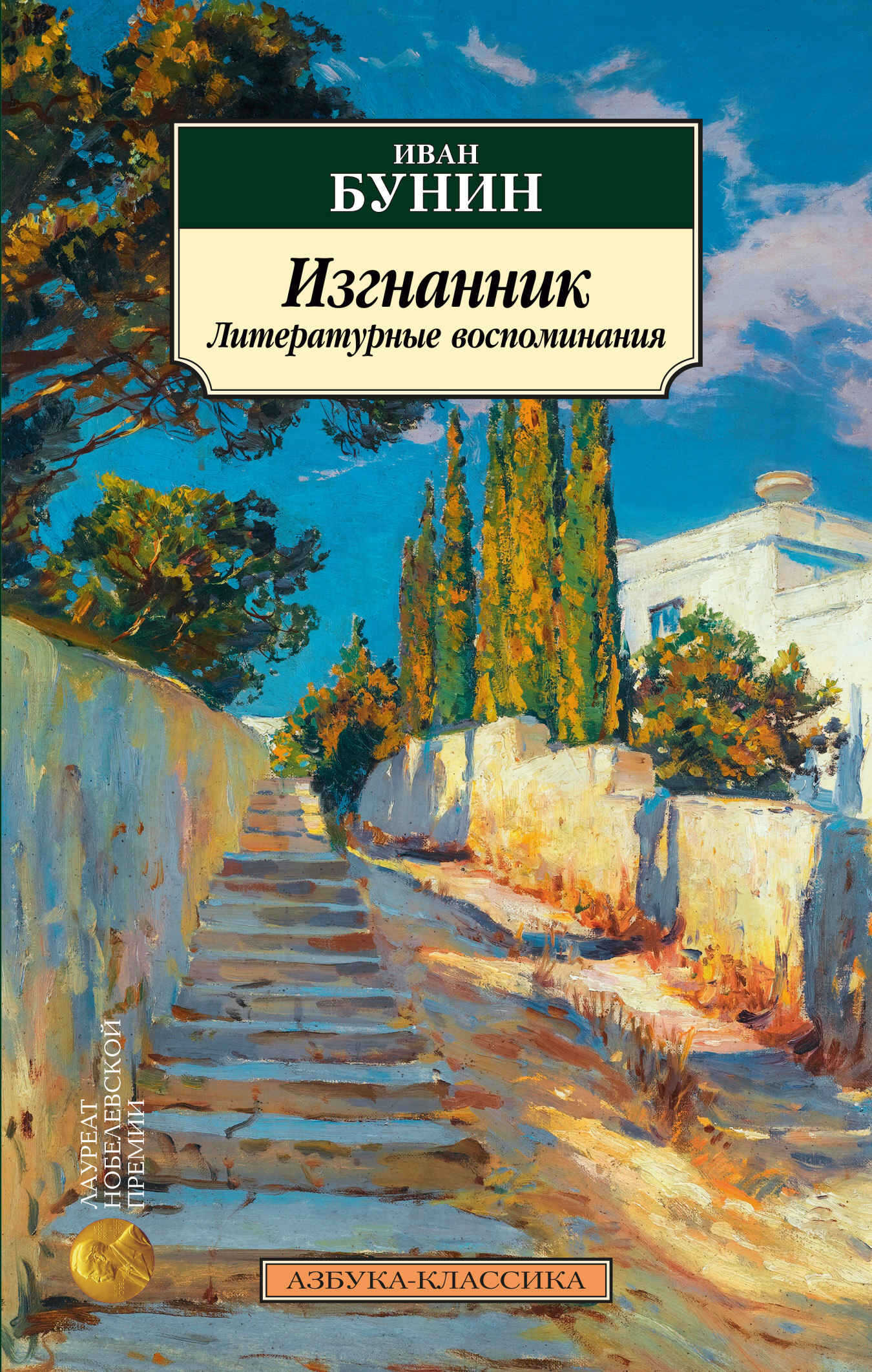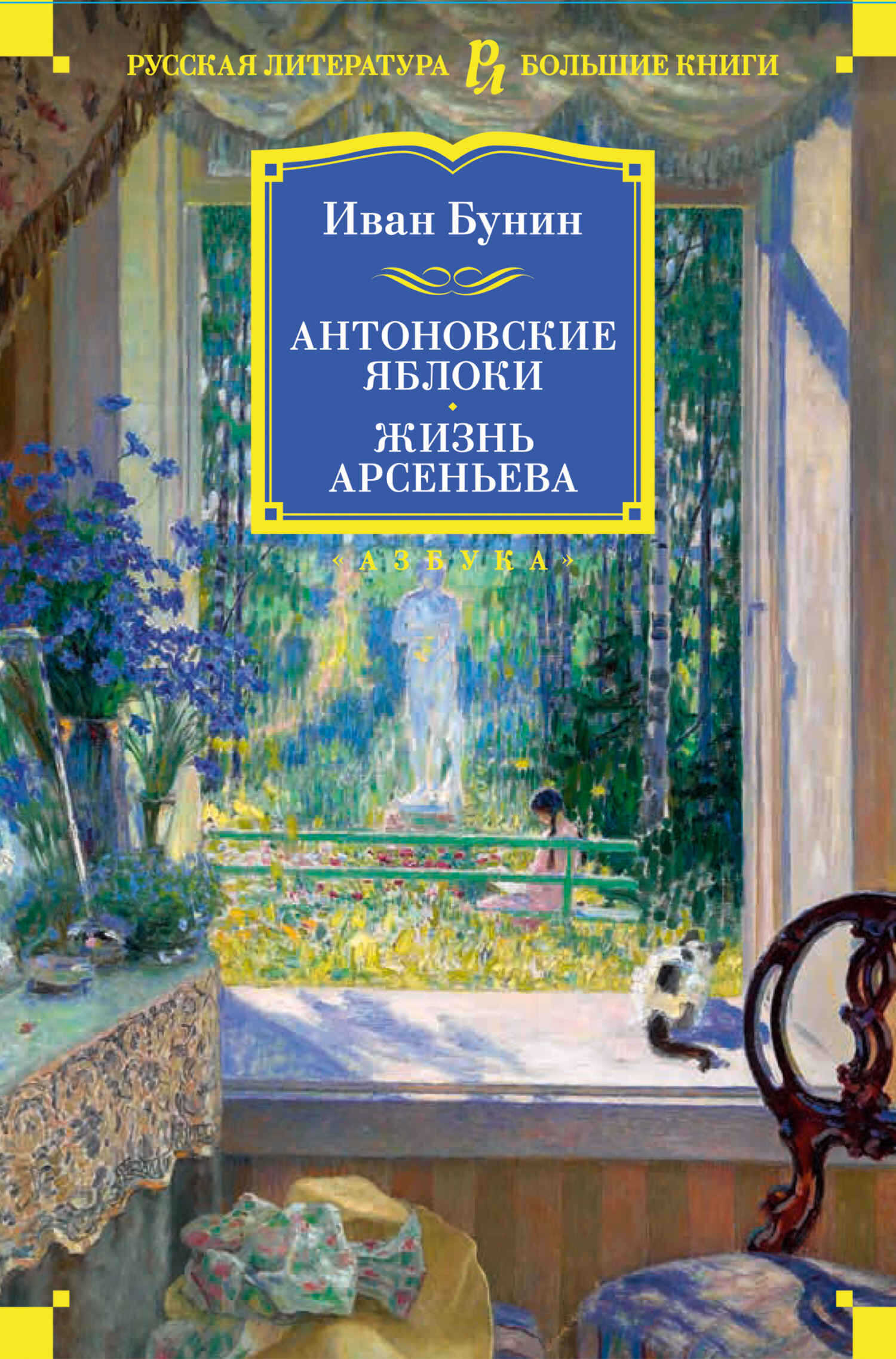Шрифт:
Закладка:
«Memento mori» – один из исходных пунктов всего модернистского искусства, где смерть становится одной из муз (Белый: «Только в тот момент, когда мы выдвигаем вопрос о жизни и смерти человечества во всей его неумолимой жестокости <…>, только в этот момент мы приближаемся к тому, что движет новым искусством <…>. А людям серединных переживаний такое отношение к действительности кажется нереальным»277), постоянно и остро ощущается Буниным.
Агрессивная сила бунинских образов, их экстравагантность и часто мрачная смелость – тоже чисто модернистская черта. Эта черта Бунина очень близка тому «отстранению», которое проповедывали русские формалисты. Бунин сумел, как никто до него, показать ошеломляющую странность обычного.
Его образы часто ошеломляют. Немыслимо встретить у русских классиков (у Толстого или Тургенева или даже Достоевского), например, подобное описание: «Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шапках, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак, и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза» (Пг. IV. 115). Или: «На лавке, у окна – гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком… За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улее, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела» (Пг. V. 83). А такое поразительное описание – как будто сцена из фильма Бунюэля: «Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам – и трагическим и скоморошеским – Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! <…> Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, ровно как и руки. Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть… И всё это, на показ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древне-церковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре <…>. После обедни, с пением <…> они растекаются по народному морю, по ярмарке. Двинулись за ними и калеки – безногие, ползающие на задах и четвереньках и лежащие на вечном одре, в тележках. Вот одна из этих тележек: в ней – маленький человечек, лет сорока, по ушам повязанный бабьим платком, со спокойными молочно-голубыми глазами, высунувший из ветошек тонкую фиолетовую ручку с шестью пальцами <…>. Вот мужик с большим белым лицом, весь изломанный, исковерканный, совсем без зада, в одном прелом лапте <…>, а сиденье подшито куском кожи – и вот весь он искривился, заерзал и пошел чесать задом по грязи, выкидывая вперед необутую ногу, до половины голую, в известковых струнах, сочащихся гноем и залепленных кусками лопуха»278.
И какие мастерские монтажные переходы от панорамы к средним, крупным планам, к сверхкрупным деталям и обратно! Таким же предвосхищением авангардного кино является пляска Егора («Веселый двор») у свежей могилы матери – вспомним макабрные и экстравагантные танцы у Довженко в «Земле» и «Иване».
Такой интенсификации образов никто до Бунина не достигал в нашей литературе, да и после него – и Бабель, и Булгаков, и Пильняк, и Набоков уступают ему в степени интенсивности.
Стремясь к экспрессии, Бунин первым перешел рамки «недозволенное™» во многих направлениях (особенно это бросается в глаза при чтении некоторых рассказов, хранящихся в Парижском архиве, которые Бунин не счел возможным опубликовать). Многие эпизоды в «Темных аллеях» шокировали русскую публику того времени, а еще раньше редактор газеты «Русское слово» Ф. Благов долго не решался опубликовать рассказ Бунина «Игнат», найдя в нем «рискованность положений и описаний» (письмо Бунину от 29 июня 1912 г.).
И в этом Бунин руководствовался тем же принципом, что и русские модернисты, для которых «безобразно только то, что безобразно» (С. Городецкий, «Некоторые течения в современной русской поэзии»).
Бунинская новая оптика в отношении деталей (о чем мы уже говорили) тоже близка модернистскому «мозаичному» стилю – где масштабность дается через множественность мелкого, а не через описание грандиозного. У Бунина мы находим то, что в сегодняшней новой русской литературе мы называем «микродеталями» (гулливеровская оптика): при описании пейзажа он отмечает, что «на рогах коров блестит низкое солнце» (М. III. 7), принимая свечку в церкви из рук какой-то случайной старушки, герой Бунина замечает, что у нее «холодная, мертвая ручка с синеватыми ноготками» (М. VI. 246), а знакомясь с какой-то дамой в гостях, писатель отмечает, что она «подавала мне, точно тюленью ласту, крепко налитую ручку, на глянцевитой подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки» (М. VI. 247). То же самое и в стихах:
Вот чайка села в бухточке скалистой <…>
И видно как струею серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.
(М. I. 214)
Столь же современен и профессионализм бунинских деталей, о котором мы уже говорили выше. И сегодняшний «шозизм» («вещизм»), зачарованность вещами («сила вещественности», М. VI. 18), новую «школу взгляда» – всё это мы находим у Бунина.
Атомизм Бунина, конечно, не доходит до того распыления материи на атомы, что мы видим в футуризме и супрематизме, и до перерождения тканей, как в кубизме. И если у футуристов и кубистов такое разрушение тканей есть выражение изменчивой нестабильности мира и отживания старых форм, то у Бунина атомизм, напротив, есть стремление воссоздать саму материю мира во всем ее богатстве и красе, в ее вечных и неизменных формах. Поэтика субъективного перекраивания мира, отрицающая наличие глубоких и таинственных связей, чужда Бунину. Так же как и футуристическое отрицание старой культуры, презрение к красоте («красота – кощунственная дрянь», Бурлюк), тяга к дисгармонии, диссимметрии, диссонансу, нарочитое выпячивание грубости и выворачивание наизнанку эстетического начала,