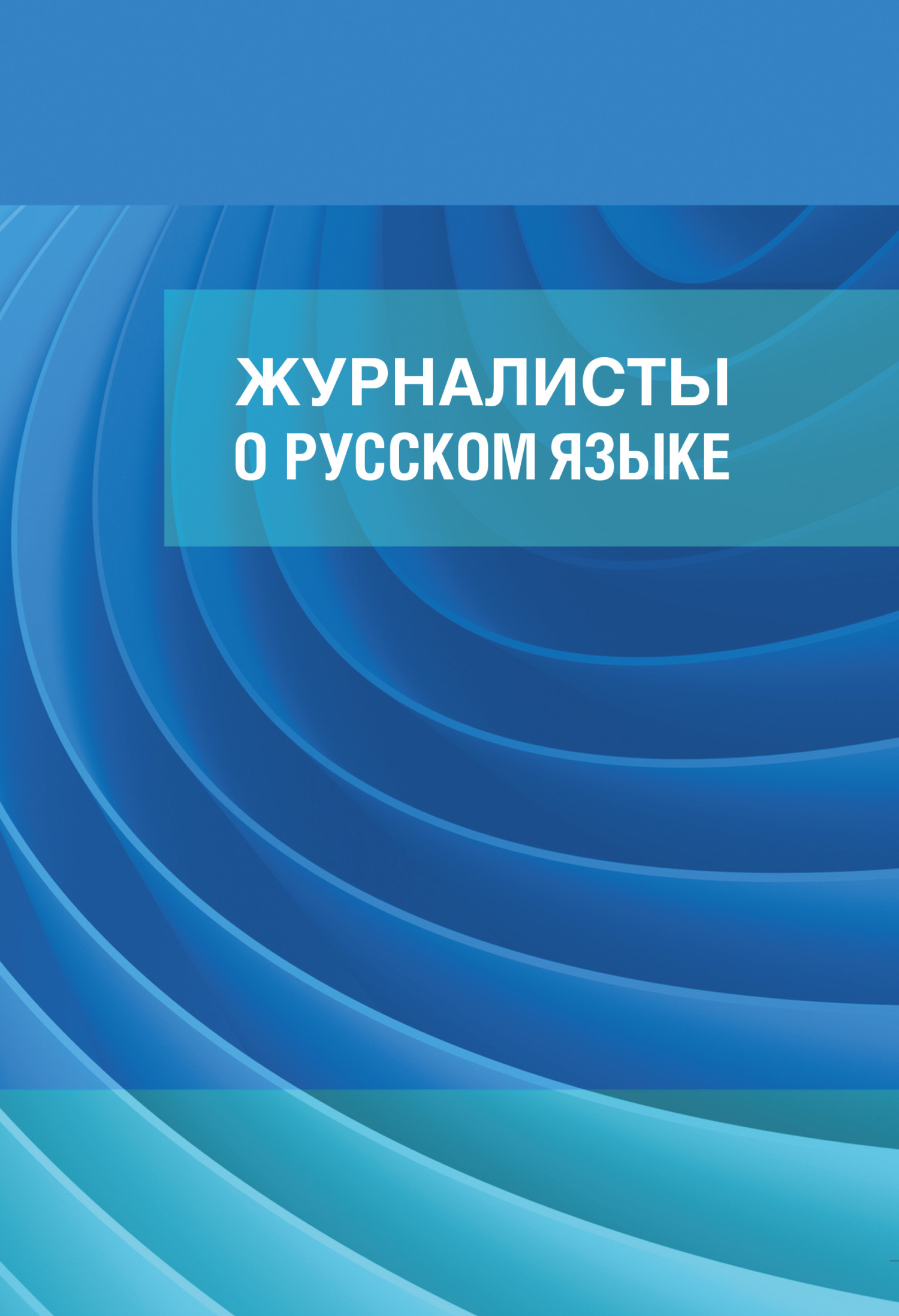Шрифт:
Закладка:
Боба нет - это необычная и остроумная история о том, что происходит, когда Бог - это ленивый и развратный подросток по имени Боб. Он не заботится о своих обязанностях, а предпочитает играть в покер с ангелами и флиртовать с девушками. Его помощником является мистер Б, который старается поддерживать порядок в мире, но не всегда справляется с задачей. Однажды Боб влюбляется в Люси - скромную стажерку из зоопарка, которая мечтает о настоящей любви. Но их роман вызывает цепь катастрофических событий, которые угрожают жизни на Земле. Сможет ли Боб спасти мир и завоевать сердце Люси? Или ему придется отказаться от своей власти над Вселенной?
Боба нет - это книга для тех, кто любит фантастику, юмор и философию. Автор Мег Розофф - известная английская писательница, лауреат многих литературных премий, в том числе премии Астрид Линдгрен. Ее книги переведены на 36 языков и получили высокую оценку критиков и читателей.
Если вы хотите читать книгу онлайн, вы можете посетить сайт knizhkionline.com, где вы найдете эту и другие интересные книги разных жанров и авторов. Наслаждайтесь чтением!