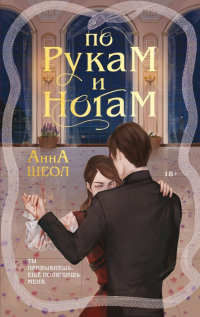Шрифт:
Закладка:
Подобно многочисленным громким событиям, связанным с именем «веселого проказника» Кена Кизи, его первая книга «Над гнездом кукухи» (1962) произвела много шума в литературной жизни Америки. Кизи был признан талантливейшим писателем, а роман стал одним из главных произведений для битников и хиппи «Над гнездом кукухи» — это грубое и опустошающе честное изображение границ между здравомыслием и безумием. «Если кто-нибудь захочет ощутить пульс нашего времени, пусть читает Кизи. И если все будет хорошо и не изменится порядок вещей, его будут читать и в следующем веке», — писали в газете «Лос-Анджелес тайме». Действительно, и в наши дни книга продолжает жить и не теряет своей сумасшедшей популярности. По мотивам романа был снят фильм (реж. Милош Форман, 1975), покоривший весь мир и получивший пять «Оскаров». А также поставлено множество спектаклей в разных странах, в том числе в России.