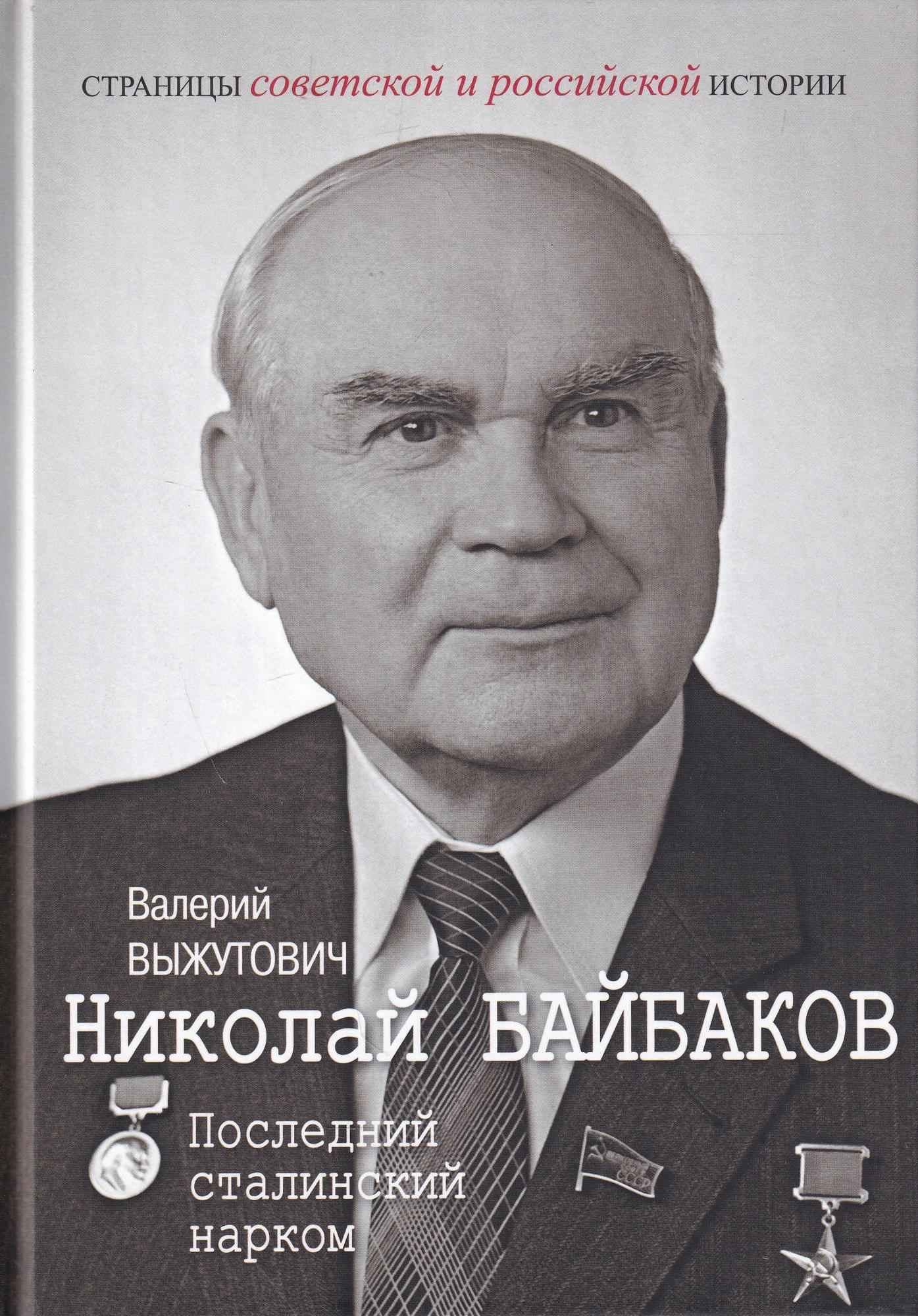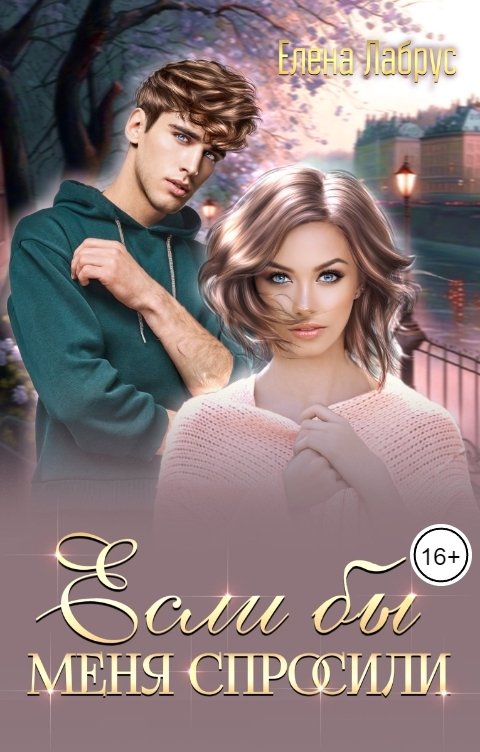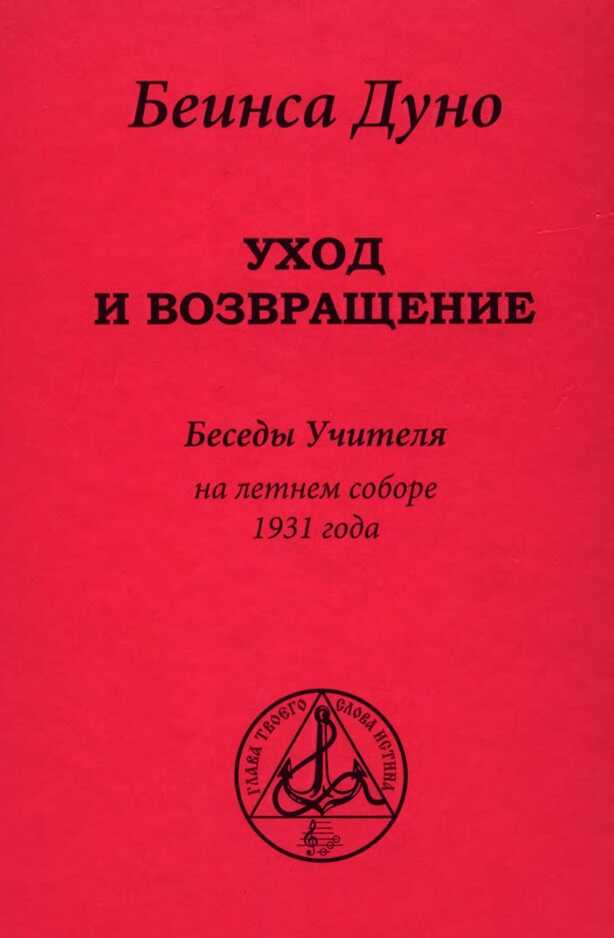Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В 1938 году начальник следственного отдела Прокуратуры СССР и талантливый литератор Лев Романович Шейнин опубликовал сборник рассказов «Записки следователя». После издания этой книги автор сосредоточился на написание повестей, романов, пьес, киносценариев и публицистики, но продолжал сочинять рассказы, повествующие о различных эпизодах из его карьеры следователя. Большинство произведений, включенных в данный сборник, были написаны в период с 1941 года по 1963 год.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лев Романович Шейнин»: