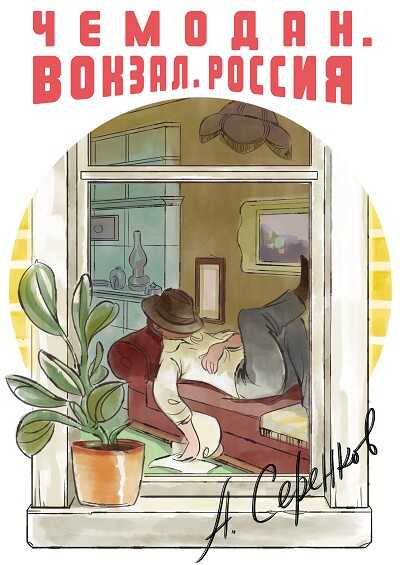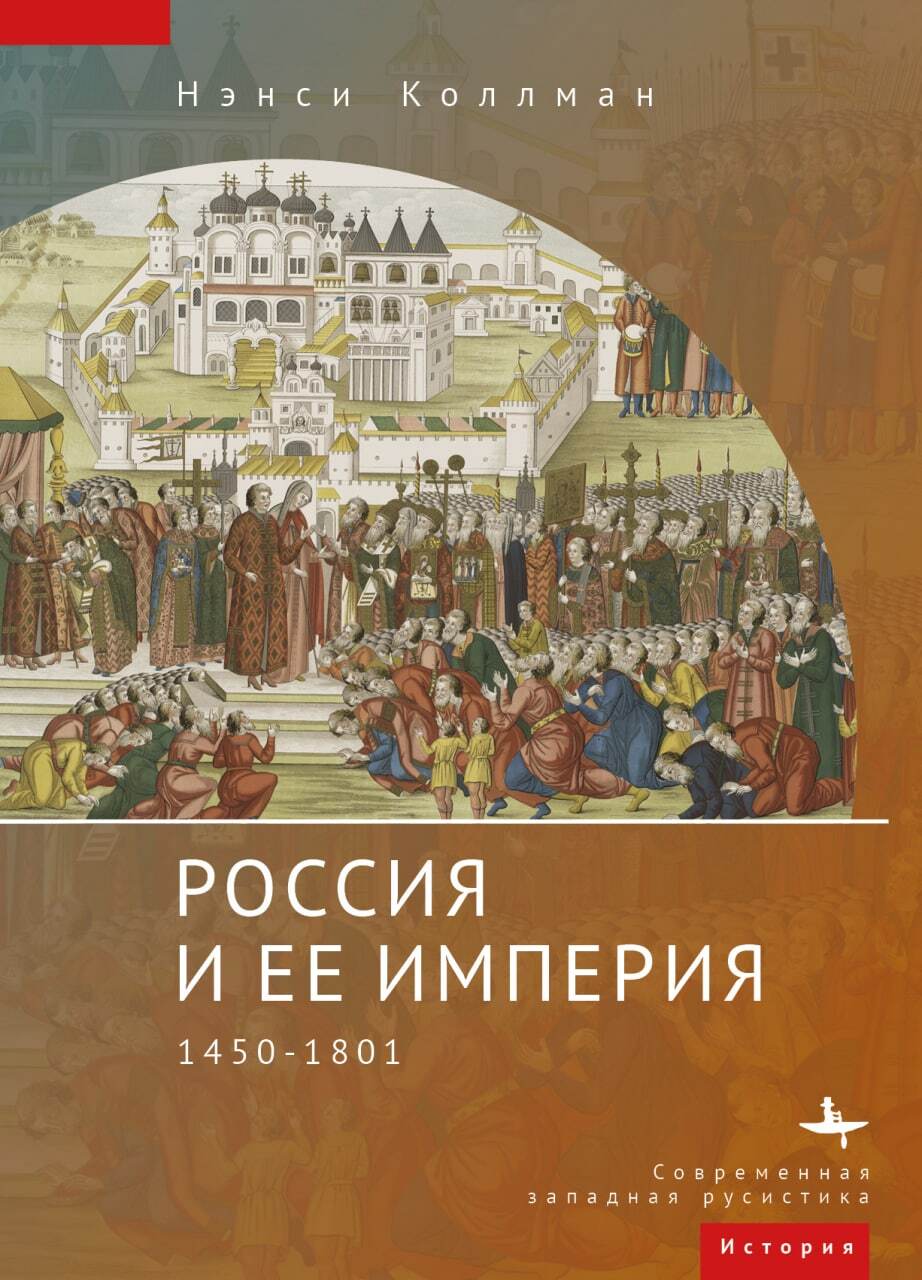Шрифт:
Закладка:
Первый нуар русской эмиграции со времен Газданова и лучший русский нуар со времен «Отчаяния» Набокова. Любовь, смерть, перевранные исторические факты. Интересные описания еды и поп-культурные отсылочки для избранных.Вторая Мировая была восемьдесят лет назад – еще чуть-чуть, и из события, в котором участвовали наши деды и бабки, она станет абстракцией из учебников, условным происшествием из жизни «предков». Как выглядели люди в любой случайный выходной день весной 1942-го? С какими интонациями говорили? Когда они решались прогуляться до комендантского часа, куда они шли? Что надевали? Что хотели бы надеть, если бы деньги позволяли?Я не обижусь, если потомок представит мой 2011-й год по фильму «Драйв», и только хочу оставить за собой право представлять 1942-й год в России с теми же актерами, с какими этот год показывали тогда в Голливуде. Тем более, что 1942-й – это год лучшего фильма на свете, «Касабланки», где действие, как известно, тоже происходит на оккупированной немцами территории.