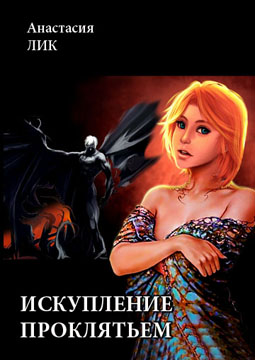Шрифт:
Закладка:
В течение длительного времени я написал роман-притчу «Зеркало времени», прозаическое произведение в трёх частях, охватывающее дни мира и войны, своеобразную версию известных событий в различных частях света в широком историческом диапазоне. В романе предоставил нечастую в наше время возможность образованным персонажам из разных культур и народов выразить свои мироощущение, мироотношение и интересы, стремясь, чтобы их характерам и представлениям поверили и эмоционально отреагировали. Нам выпало жить в непростое время смены мировых эпох. Знания, ещё вчера глубокие и несомненные, оказываются всё менее способны помогать людям справляться с ужесточающимися проблемами современной цивилизации. Однако и новые знания, открываемые человечеством, таковы, что колеблют уже самые основы привычного всем мироздания. Существует множество поучений, как, например, срочно разбогатеть. Ведь редкий из нас не планирует завтра жить непременно лучше, чем сегодня, и уж, конечно, прикидывает, что ещё для этого надо сделать. Но когда обстоятельства вдруг объединяются, чтобы воспротивиться нашим устремлениям, менее всего мы склонны обнаруживать причину неожиданно возникших препятствий в нас самих. Мы, кажется, перестаём осознавать, от чего бежим, и не вполне понимаем, к чему стремимся. Может, мы просто не выучились самому важному. И оттого не умеем вглядываться в собственную душу, отражающую, подобно волшебному зеркалу, нас самих и наше время… Героям романа «Зеркало времени», проходящим через вереницу дней, полных драматических событий и размышлений, удаётся выйти на путь обретения новых способностей и нового сознания. Действовать им приходится в дни мира и войны в разных частях света, убеждаясь, раз за разом, что далеко не всё, созданное нашими предками по своему разумению, оказывается совершенно и приемлемо для нас. Будут ли удовлетворены потомки нами? Охраняется законом об авторском праве. Внесение изменений, тиражирование всего текста или любой его части в виде печатных изданий, в аудио-, теле-, кино-, визуальной, электронной или иной форме, сценарная обработка, а также реализация указанных тиражей без письменного разрешения автора будут преследоваться в судебном порядке. Все совпадения с реальными непубличными событиями случайны.