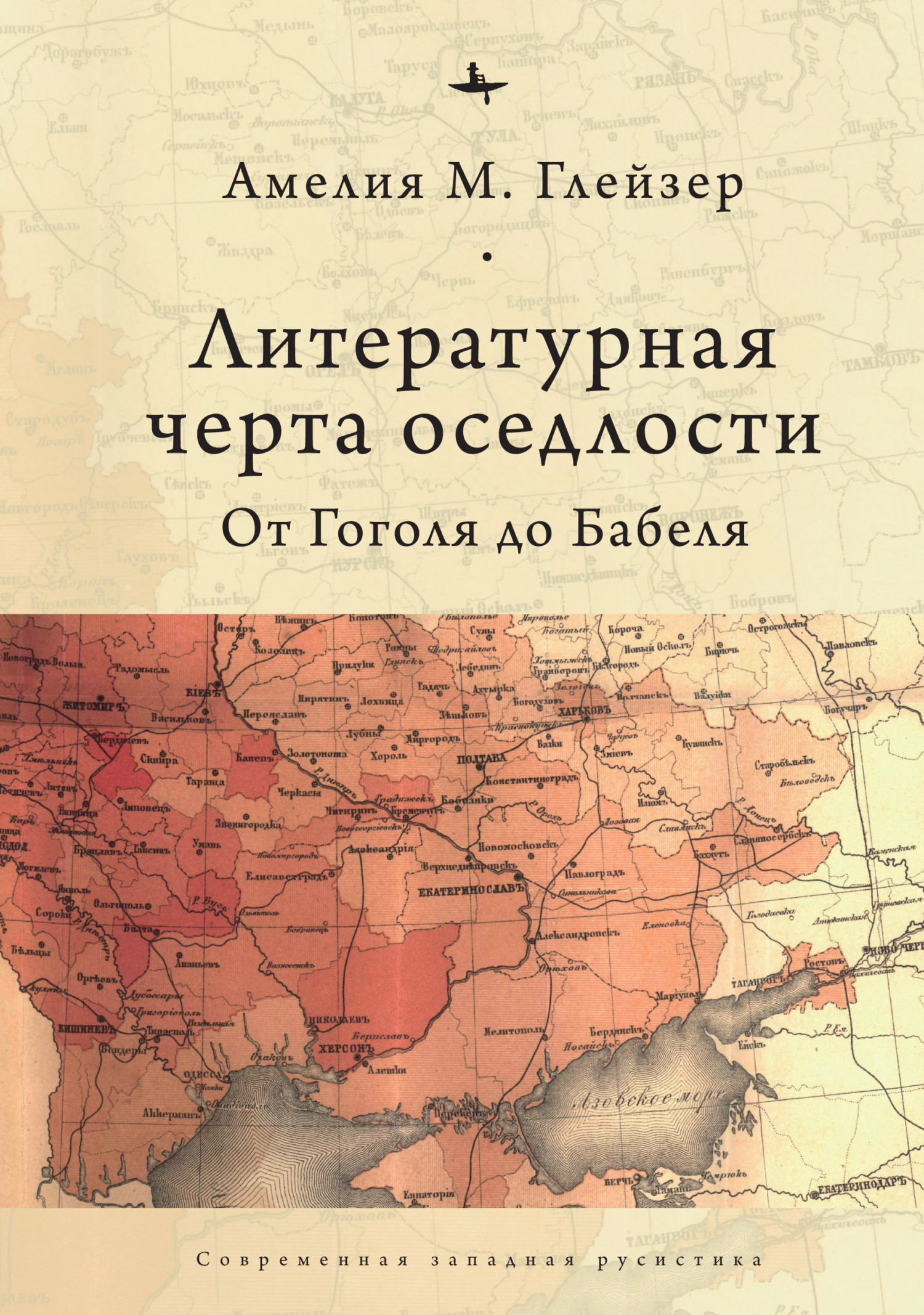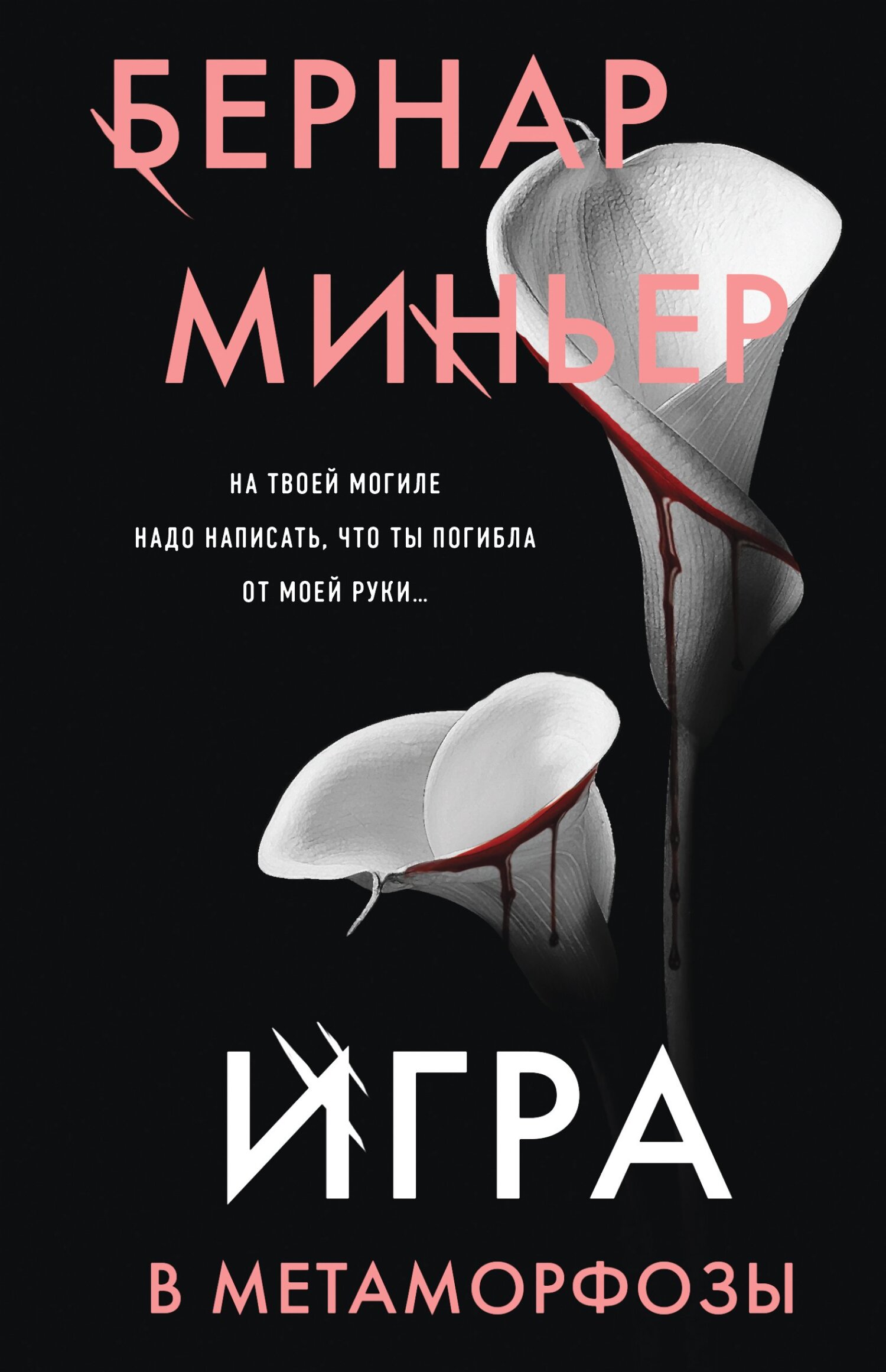Шрифт:
Закладка:
Если вы любите исторические приключения, то эта книга для вас. В ней вы познакомитесь с жизнью и подвигами пограничников, которые охраняли наши границы в разные эпохи и на разных территориях. Вы узнаете о том, как они сражались с врагами на Курильских островах, на берегу реки Прут и на Тихом океане. Вы почувствуете атмосферу тревоги и надежды, дружбы и предательства, любви и горя. Вы окунетесь в удивительный мир природы и истории, который описывает автор с большим мастерством и знанием дела.
Книга «На самых дальних…» Валерия Андреева — это сборник из четырех повестей: «Курильский дневник», «На самых дальних…», «Береговая крепость» и «Дорога на Тихий океан». Каждая из них — это захватывающая история о мужестве и чести, о службе Родине и защите ее интересов. Каждая из них — это свидетельство того, что пограничники — это не просто воины, а люди с горячим сердцем и холодным разумом.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир пограничной службы и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу безопасность.