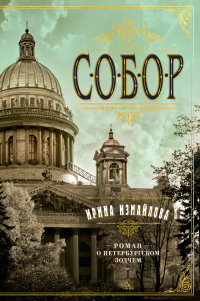Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эдвард Фредерик Бенсон, интеллектуал и историк британской монархии, автор десятков «страшных рассказов» и любимец мэтров хоррора, по-прежнему остается писателем, недооцененным потомками. А между тем в своих произведениях он часто рассказывал об ужасах, имевших место в его собственной семье… К чему готовиться, если постоянно слышишь жужжание мух? Что может скрываться в отражении хрустального шара?Как действовать, если оживает твой автопортрет? Вот лишь некоторые темы рассказов Э. Ф. Бенсона…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эдвард Фредерик Бенсон»: