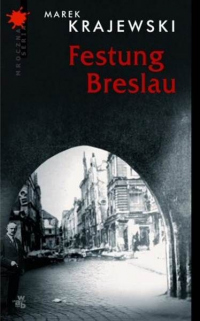Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Австрия, тридцатые годы. У старого часовщика и его супруги растут три дочери, которых отец прозвал «сестрами Эдельвейс»: работящая и приземленная Иоганна, умная, застенчивая Биргит, которая помогает отцу чинить часы и в этом видит свое призвание, и очаровательная Лотта. Как бы ни была счастлива и беззаботна жизнь сестер, наступают темные времена. Теперь им придется рискнуть всем, чтобы спасти страну, которую они любят всем сердцем. Но даже в полной темноте могут прорасти мельчайшие семена любви и надежды.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Кейт Хьюитт»: