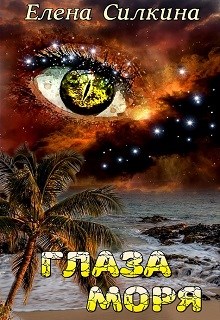Шрифт:
Закладка:
Роман Марселя Пруста (1871–1922) В поисках утраченного времени является со времен его публикации в 1910–1920-х годах неослабевающим вызовом читателям всего мира. Что это: необозримая книга-собор в традиции больших романов XIX века, панорама рафинированной культуры Европы «конца прекрасной эпохи», сметенной мировыми войнами, опыт философского осмысления памяти средствами литературы, попытка автора разобраться в самом себе, его раздумье о том, что значит написать книгу и как на это решиться, или, наконец, предложение читателю понять, что значит по-настоящему книгу прочесть? Всё это вместе и многое другое, о чем с разных сторон размышляют девять читателей Пруста: литературоведы, философы, историки искусства. И, конечно, Поиски – это вызов переводчику, который в этой книге принимает Елена Баевская, открывающая фрагментарный, но в то же время единый вид на корпус текстов выдающегося французского писателя.