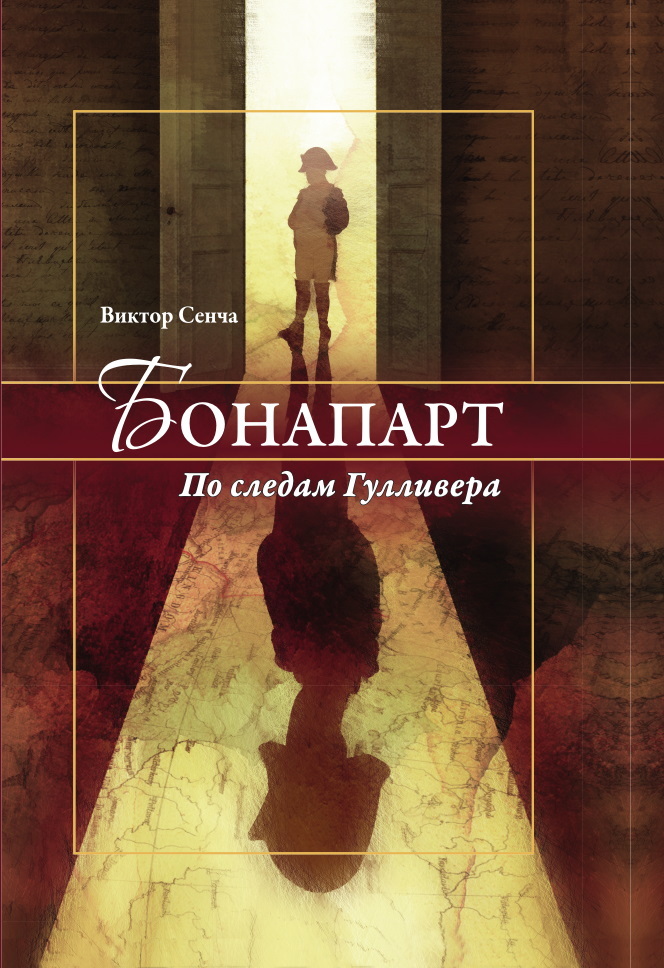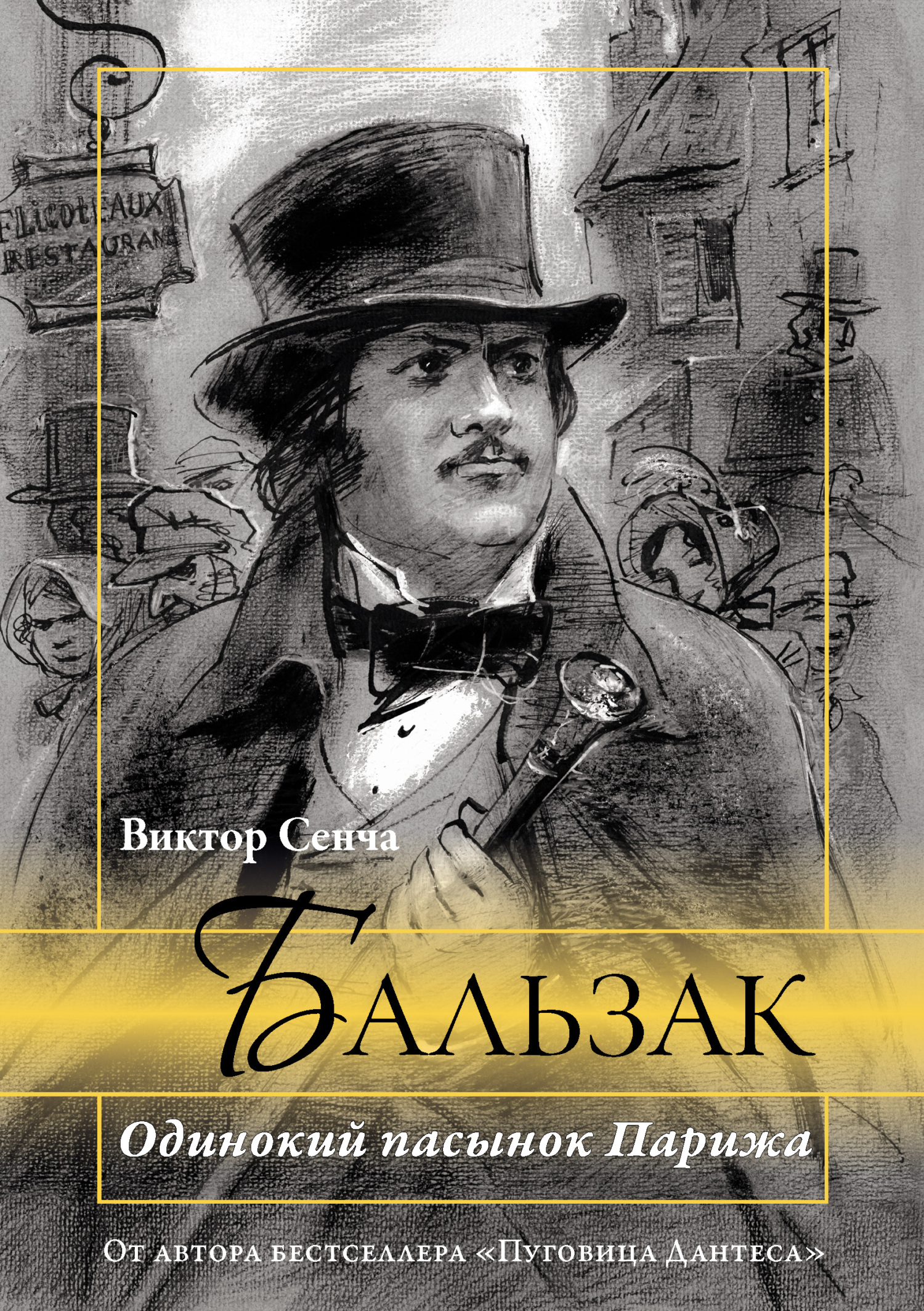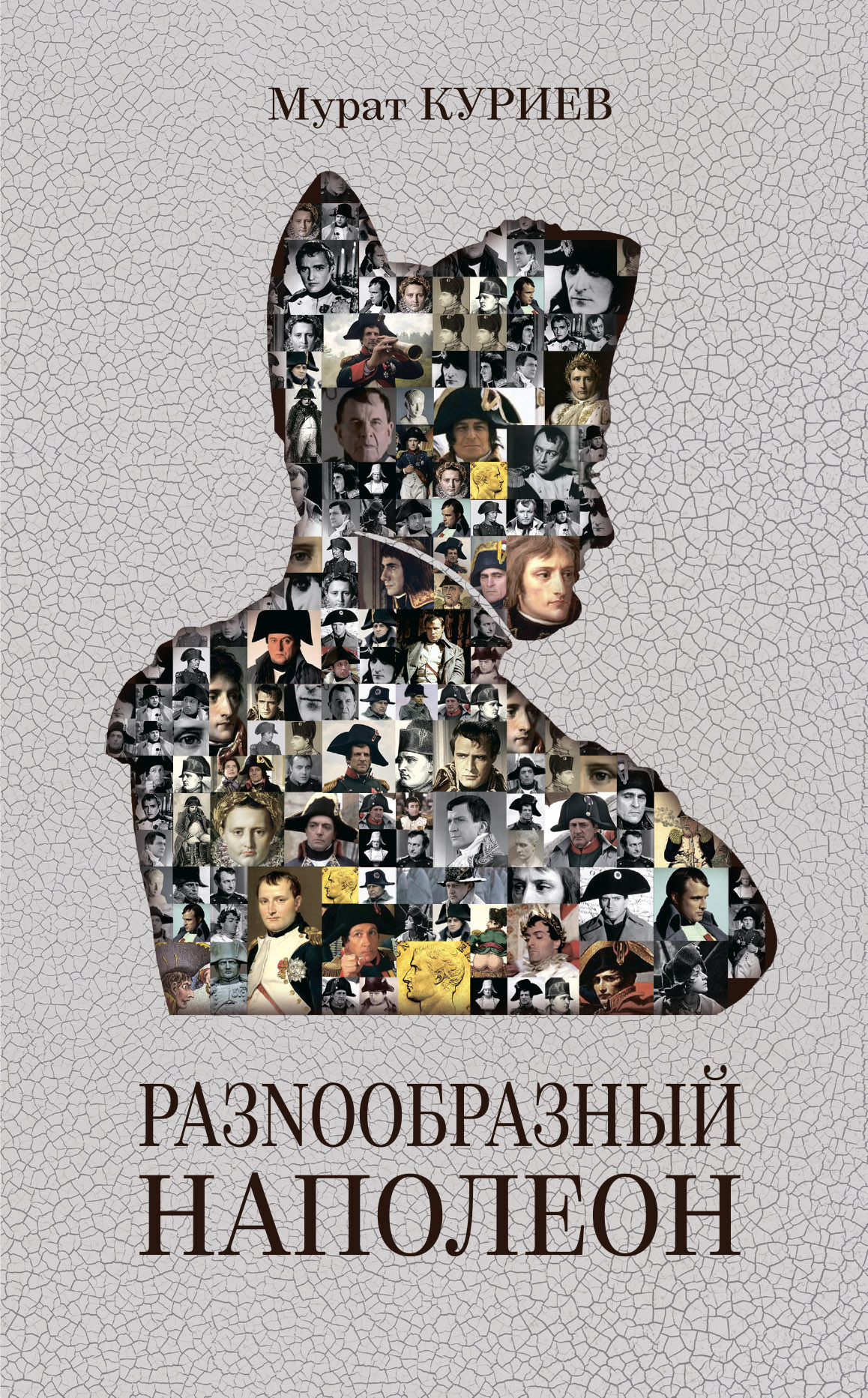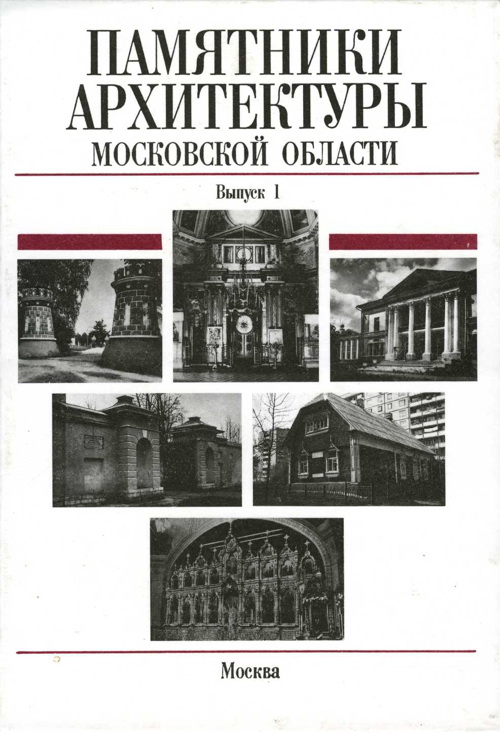Шрифт:
Закладка:
Наполеон Бонапарт – фигура не только историческая. Наполеон – символ абсолютизма и единоначалия. В событийном масштабе – Явление. Как Александр Македонский или Карл Великий. Исполин, перекроивший Европу и изменивший мир. Гений стратегии, тактики и дипломатии. Гулливер, до величия которого по прошествии двух столетий не смог дотянуться никто.И все же это был человек. Со своими слабостями и ошибками, принципами и привязанностями. Его страстью являлась война. Иногда он плакал – когда погибали его боевые товарищи. И улыбался, рассматривая в подзорную трубу поле сражения, усеянное трупами убитых врагов. Наполеон был отважен и презирал смерть. Его уважали даже неприятельские солдаты. А свои – обожали, с восторгом крича: «Vivat l’empereur!» Несмотря на то что кто-то называл Бонапарта чудовищем, кто-то – узурпатором, многие ему просто завидовали.Триумфальное шествие Наполеона по миру закончилось ссылкой на далекий остров, где поверженный Гулливер очутился во власти надменных «лилипутов». Но даже там он не собирался сдаваться. А воспоминания о днях минувших скрашивали нелегкие годы тоски и одиночества…Эта книга о нем. Императоре Франции. Великом полководце. Гении. Тиране. Безжалостном завоевателе. И… Человеке. Имя которому – Наполеон Бонапарт.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.