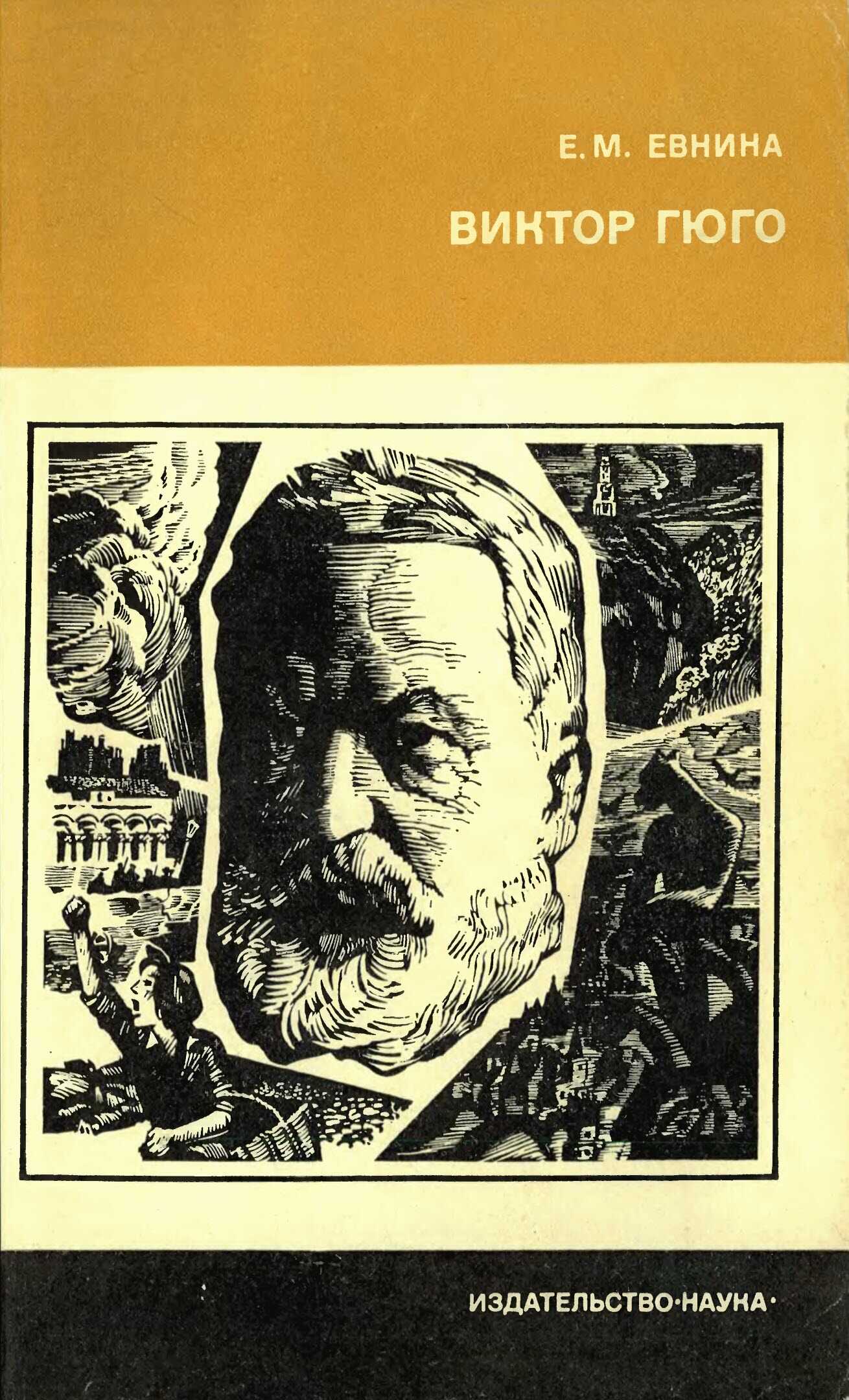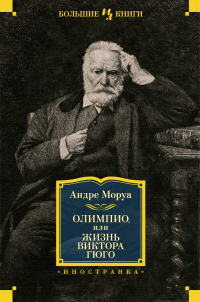Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга доктора филологических наук Е. М. Евниной освещает основные этапы жизни и творчества крупнейшего французского писателя XIX в. Виктора Гюго. Анализируя произведения Гюго, автор особое внимание уделяет его новаторству в различных литературных жанрах — в поэзии, прозе, драматургии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Марковна Евнина»: