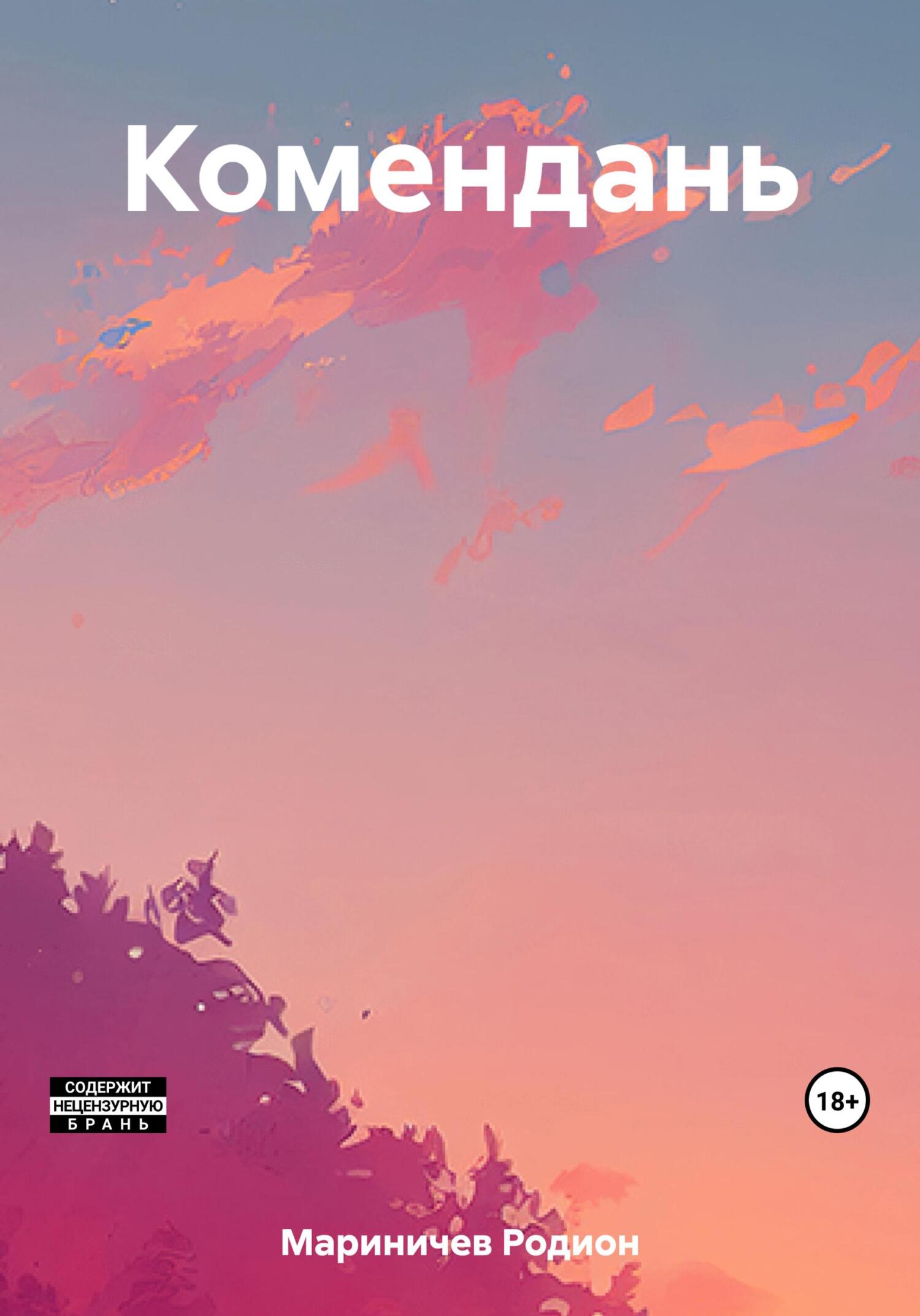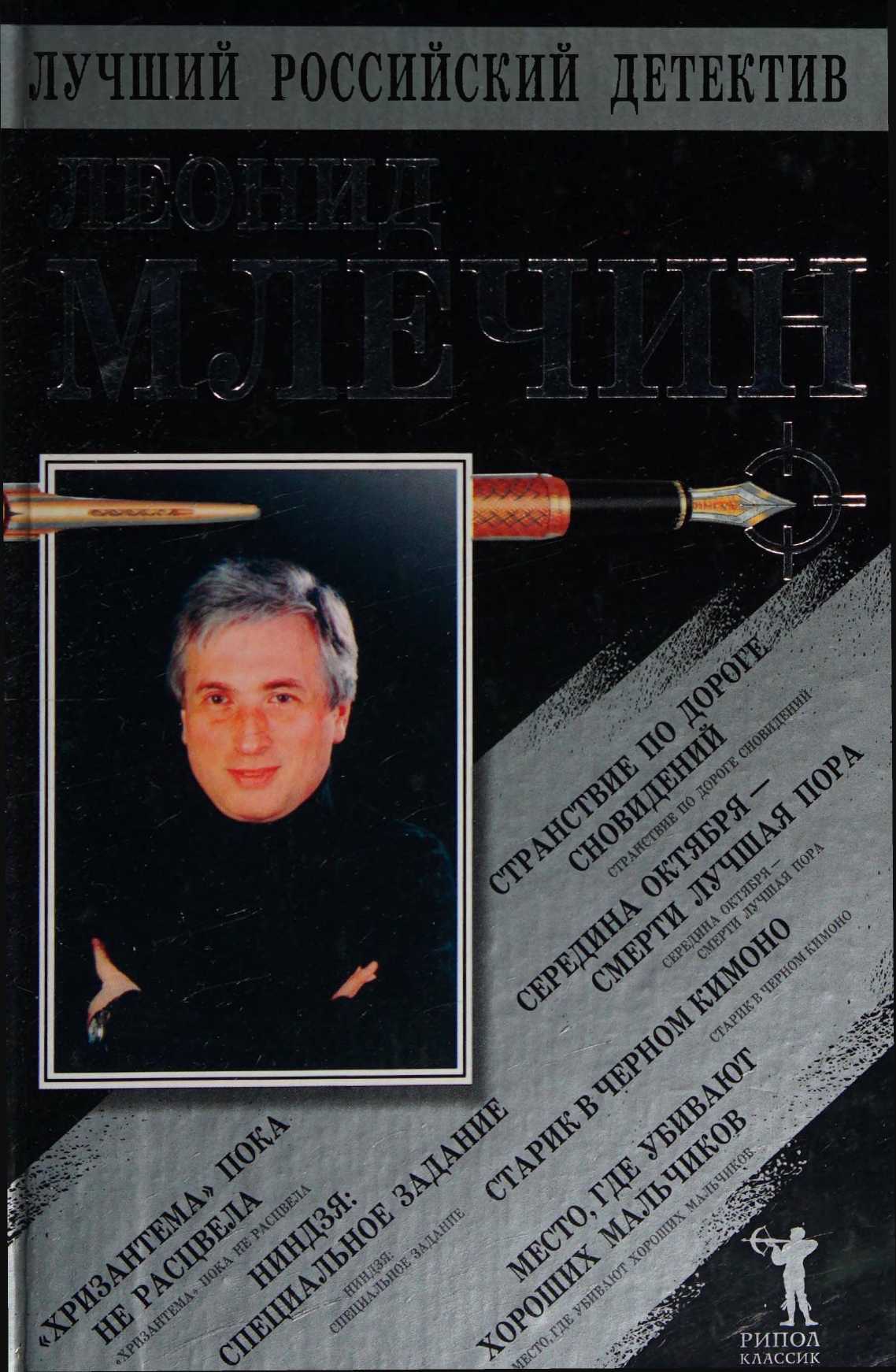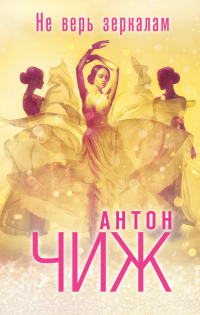Шрифт:
Закладка:
В жизни учительницы истории Тани назревают перемены: их брак с мужем – кадровым военным – даёт трещину. И дело не столько в возникших на стороне отношениях. Дело в изменениях, которые надвигаются на страну. Разные взгляды на прошлое и будущее разрушают счастье, которое ещё совсем недавно казалось прочным. Помня о судьбе своих предков – финнов и карелов, которые пережили блокаду Ленинграда, послевоенные десятилетия, эмиграцию в Хельсинки и возвращение домой, – Таня чувствует, что ей всё тяжелее с Семёном. Он – человек своего времени и патриот, но патриотизм у него другой. Таню, родившуюся 9 мая, всё больше раздражает пышное празднование Дня Победы, больше напоминающее маскарад, чем поминовение погибших. Апогеем становится спектакль, который ей поручила поставить директор школы. У той – свои политические интересы, ради которых она готова практически на всё.