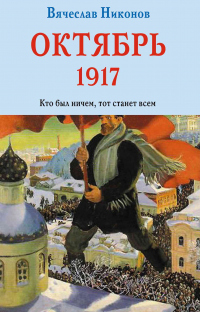Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Княгиня Ольга Палей, морганатическая супруга великого князя Павла Александровича, сына Александра III, в своих воспоминаниях описывает страшные события, пережитые ее семьей после совершившейся революции. В 1918 году большевики арестовали великого князя, а затем и его сына. Им была уготована тяжелая участь. Ольга отчаянно билась за своего мужа и сына, надеясь их спасти, безрезультатно обивала пороги начальников. Когда в России было потеряно все, княгиня бежала за границу и воссоединилась со своими дочерьми. В эмиграции Палей написала мемуары, полные боли и ненависти к новой власти в России.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Валериановна Палей»: