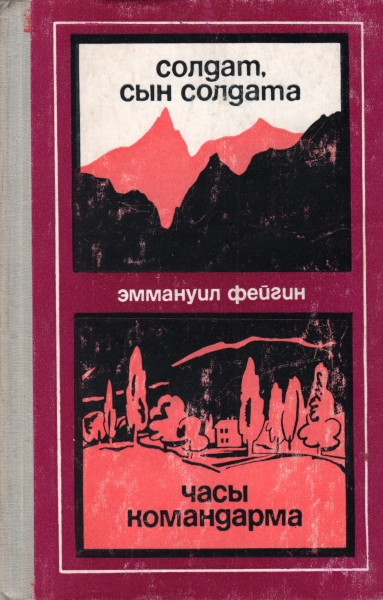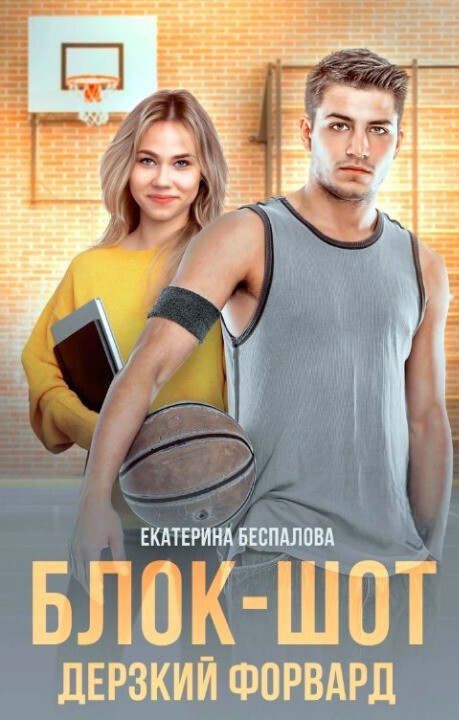Шрифт:
Закладка:
Книга «Солдат, сын солдата. Часы командарма» - это сборник рассказов и повестей Эммануила Абрамовича Фейгина, известного советского писателя и ветерана Великой Отечественной войны. В этих произведениях автор рассказывает о жизни и подвигах обычных солдат, офицеров и командармов, которые сражались за свою Родину на разных фронтах и в разные годы.
В рассказе «Солдат, сын солдата» читатель узнает о судьбе молодого парня, который пошел на войну следом за своим отцом, героем Советского Союза. В повести «Часы командарма» автор повествует о том, как один из самых высоких военных деятелей страны, командарм Константин Рокоссовский, сталкивается с предательством и ложью в своем окружении. В других рассказах и повестях Фейгин показывает разные аспекты военной жизни: отвагу и страх, дружбу и вражду, любовь и ненависть, верность и измену.
Книга «Солдат, сын солдата. Часы командарма» - это не только увлекательное и захватывающее чтение, но и ценный исторический документ, который отражает дух и настроение того времени. Это книга о людях, которые поставили свою жизнь на кон за свободу и справедливость. Это книга о том, что значит быть солдатом. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com