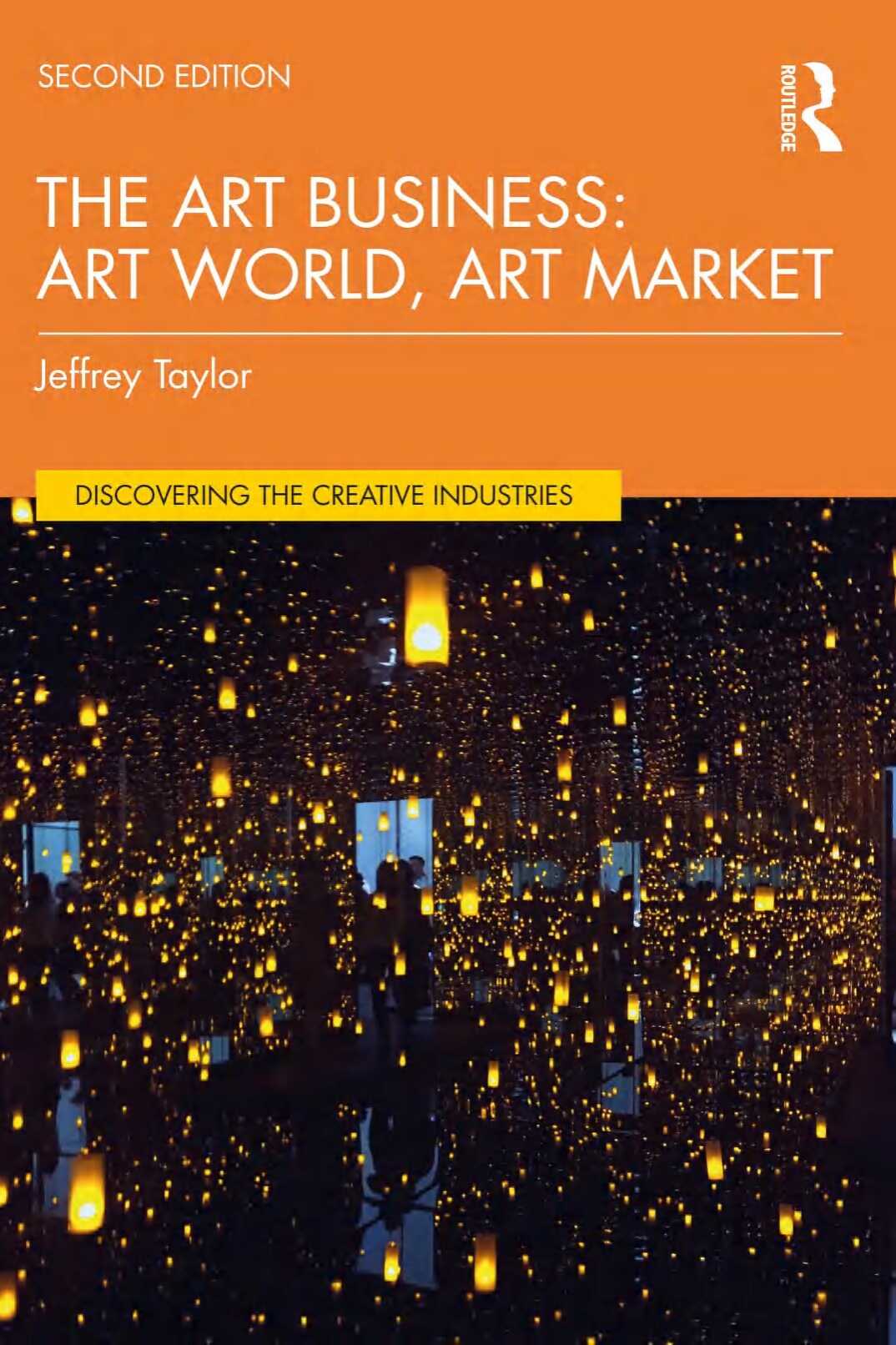Шрифт:
Закладка:
Представляя будущее, мы обычно воображаем себя встроенными в механизированную экосистему, населенную роботами, аппаратами и виртуальными реальностями. Будущее радужно и технологично, и мы, люди, – единственные живые действующие лица в этом прекрасном мире. Однако такое представление – большая ошибка, заявляет биолог и эколог Роб Данн. Как бы мы ни пытались подчинить себе природу, мы остаемся ее частью и непосредственно зависим от нее. В книге «С нами или без нас» Данн рассказывает о биологических законах, столь же непреложных, как законы физики, о том, как меняется окружающий нас мир, какая участь ожидает известные нам виды и где и как будут формироваться новые. При этом за долгую историю своей жизни на планете человечество невольно истребило дикие виды, от которых зависело или могло зависеть, и одновременно способствовало возникновению видов, создающих нам неприятности.Теперь, если мы сами как вид хотим выжить, нам надо научиться понимать биологические законы и подчиняться им. Тогда наши шансы прожить еще 100, 1000 или даже миллион лет значительно повысятся. Ну, а если нет – что ж, у экологов и эволюционных биологов есть довольно убедительное видение того, как будет развиваться жизнь на Земле без нас…Когда климатические условия уходят от параметров идеальной для человека ниши – особенно когда повышается температура, – последствия могут вызывать проявления насилия по всему современному миру. Как предполагается, повышение внешней температуры сказывается на мозге, что может оборачиваться сбоями в принятии решений, или, говоря конкретнее, ослаблением контроля над сиюминутными поведенческими импульсами. ‹…› Сильнее жара – больше ссор и агрессии.Для когоДанная книга будет интересна читателям, которые хотят больше узнать о биологии, экологии, эволюции и будущем нашей планеты, а также тем, кто интересуется научно-популярной литературой и вопросами сохранения окружающей среды.Мы вполне в состоянии оценить свои сегодняшние нужды, но трудно предугадать, что может понадобиться завтра или послезавтра. С учетом сказанного наилучший подход – это беречь (и нести с собой в будущее) все виды живого, которые могут когда-нибудь пригодиться.