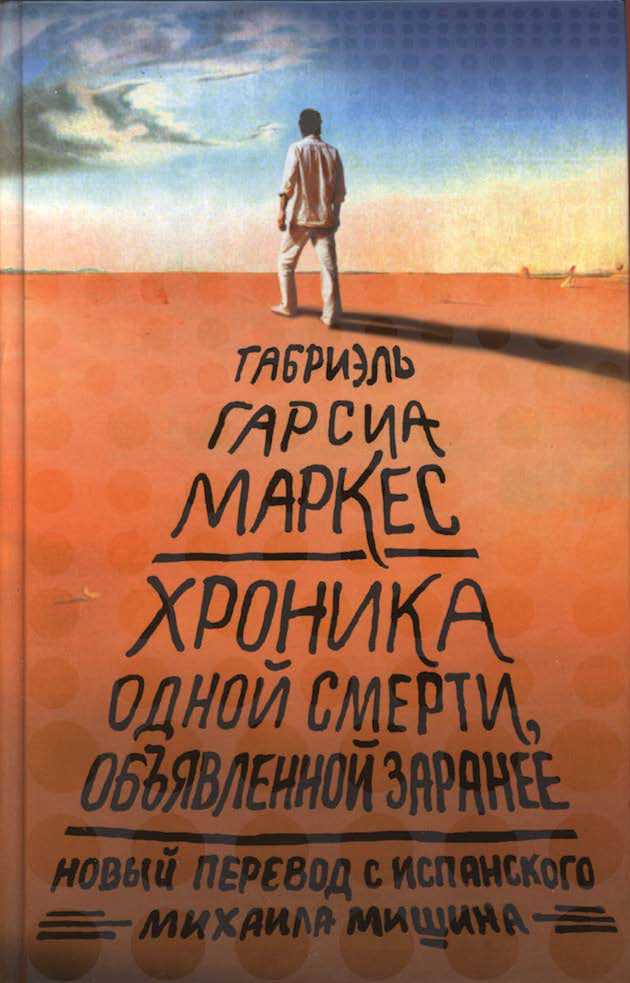Шрифт:
Закладка:
Габриэль Гарсиа Маркес – величайший писатель XX века, лауреат Нобелевской премии, автор всемирно известных романов «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Осень патриарха».«Мне всегда хотелось написать книгу об абсолютной власти» – так автор определил главную тему своего произведения.Диктатор неназванной латиноамериканской страны находится у власти столько времени, что уже не помнит, как к ней пришел. Он – уже и человек, и оживший миф, и кукловод, и марионетка в руках Рока. Он совершенно одинок в своем огромном дворце, где реальное и нереальное соседствуют самым причудливым образом.Он хочет и боится смерти. Но… есть ли смерть для воплощения легенды?Возможно, счастлив властитель станет, лишь когда умрет и поймет, что для него «бессчетное время вечности наконец кончилось».