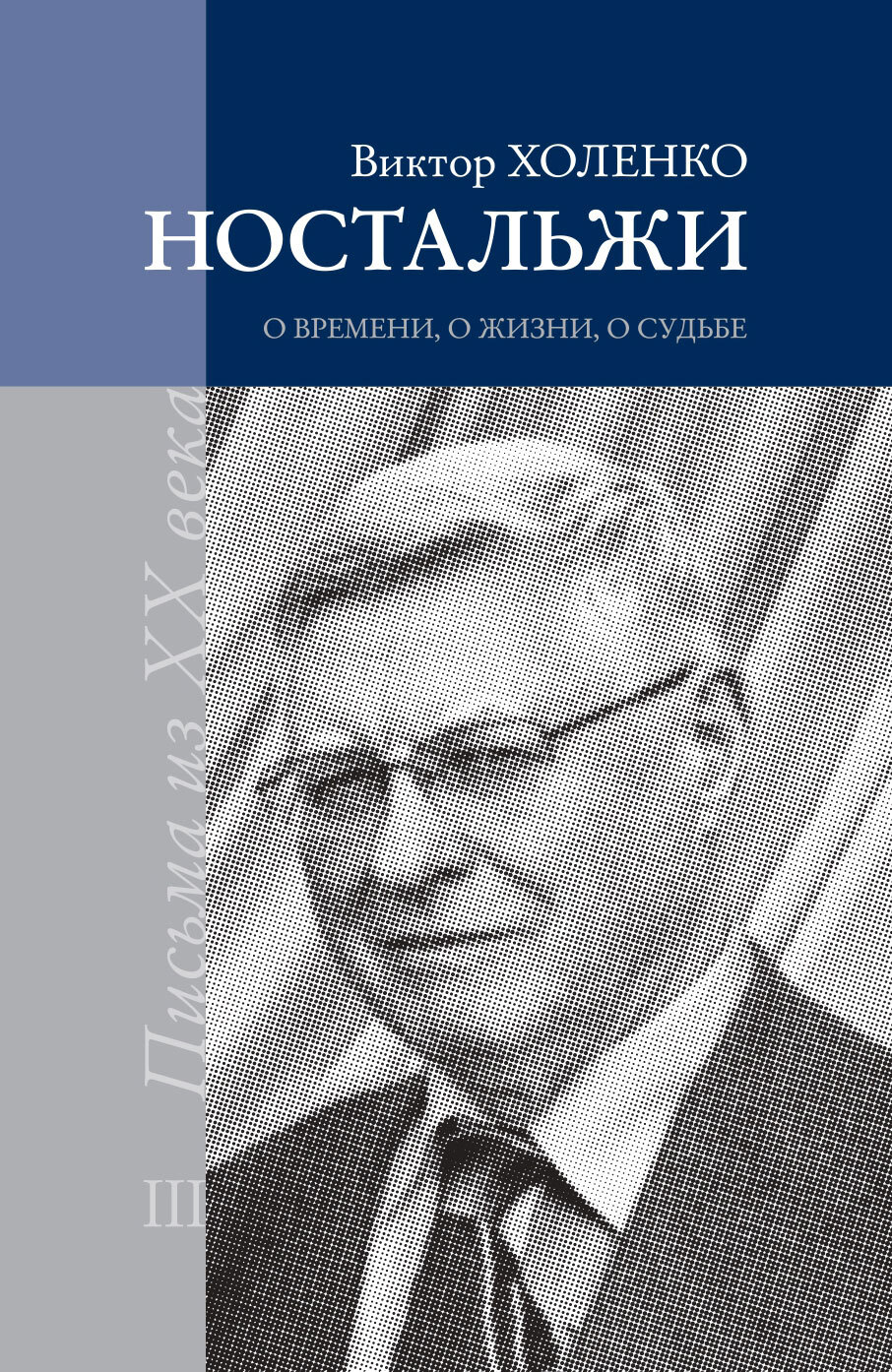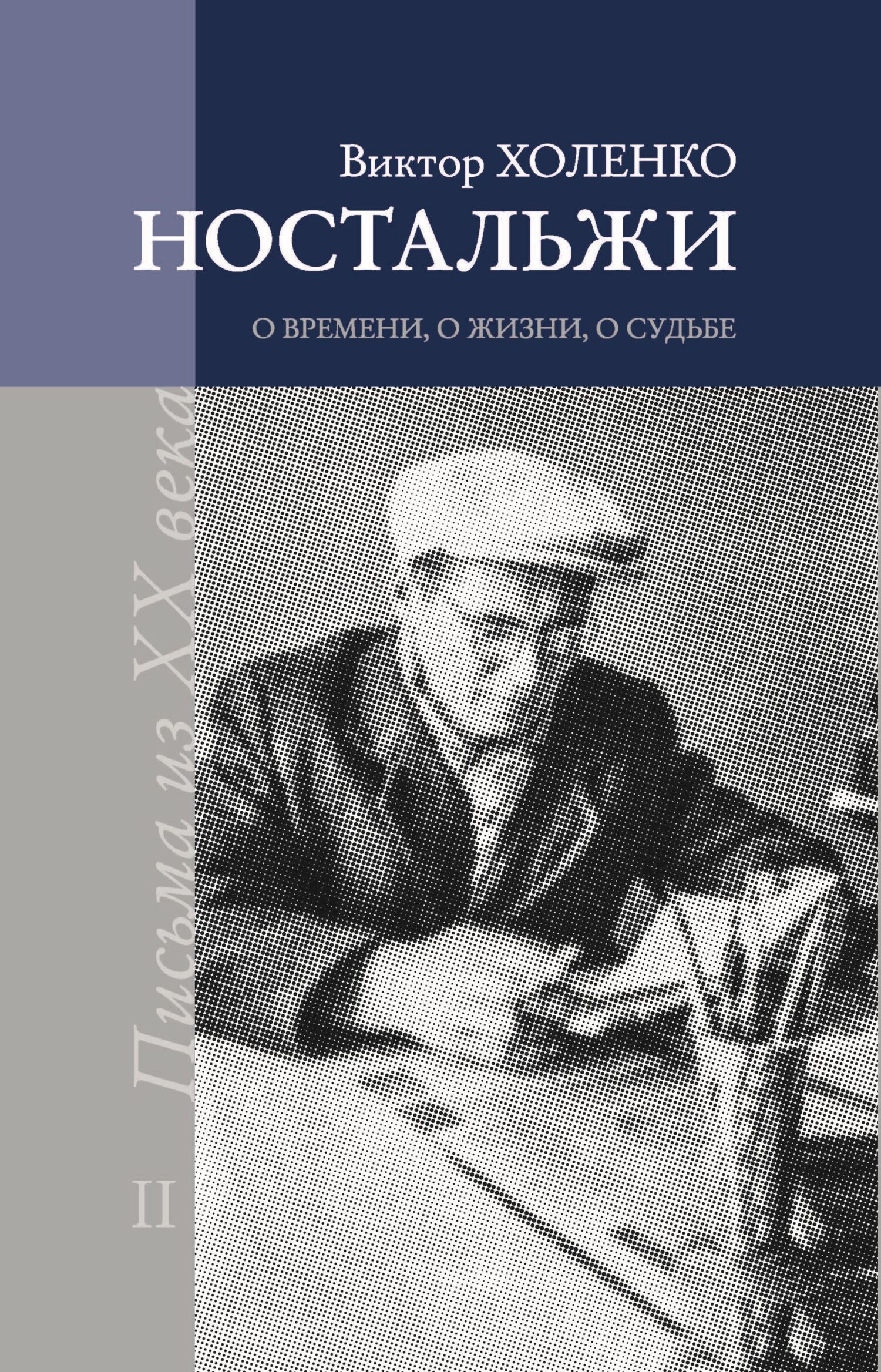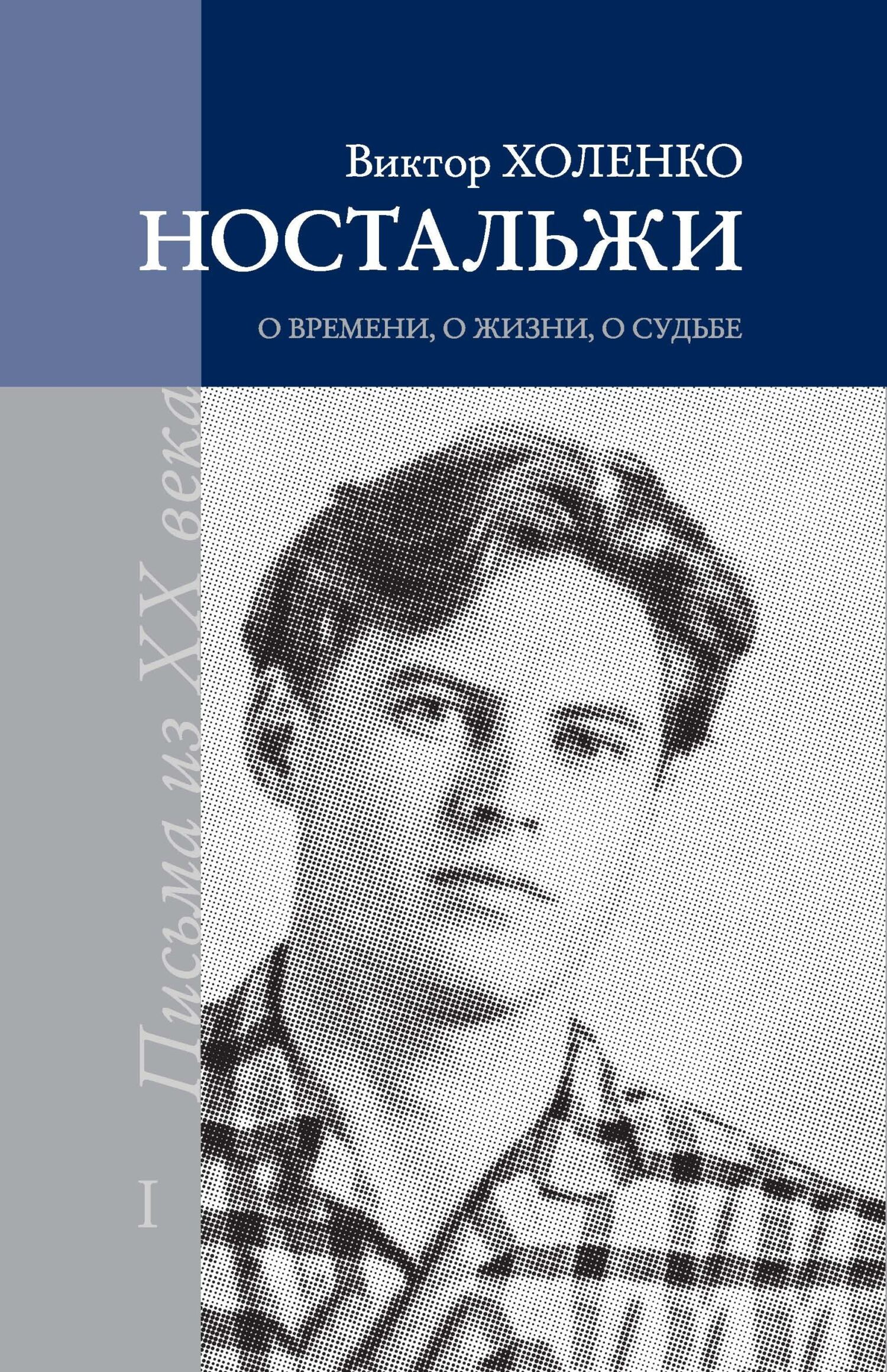Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Во втором томе повести-эссе читатель окунается в атмосферу жизни дальневосточной глубинки 60-х годов – Камчатки, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, где автор начинал трудовую биографию грузчиком в рыбном порту, рабочим геологической экспедиции, а потом и журналистом-газетчиком.Широкий охват и взаимосвязь событий личной и общественной жизни – счастливых и драматических – помогает читателю понять и прочувствовать вкус былых времён, естественность и логичность поступков людей, живших в других исторических реалиях, по-новому и честно взглянуть на известные исторические события.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Холенко»: