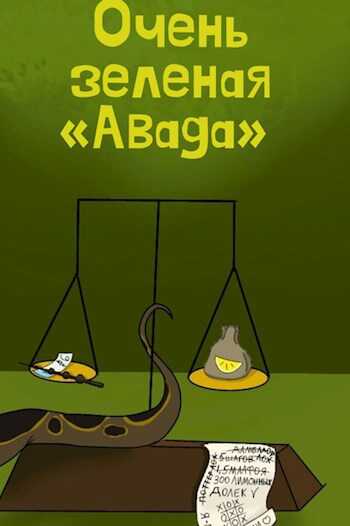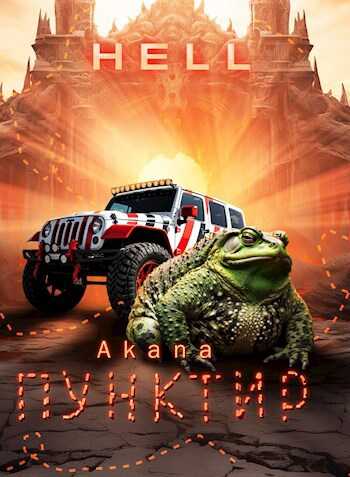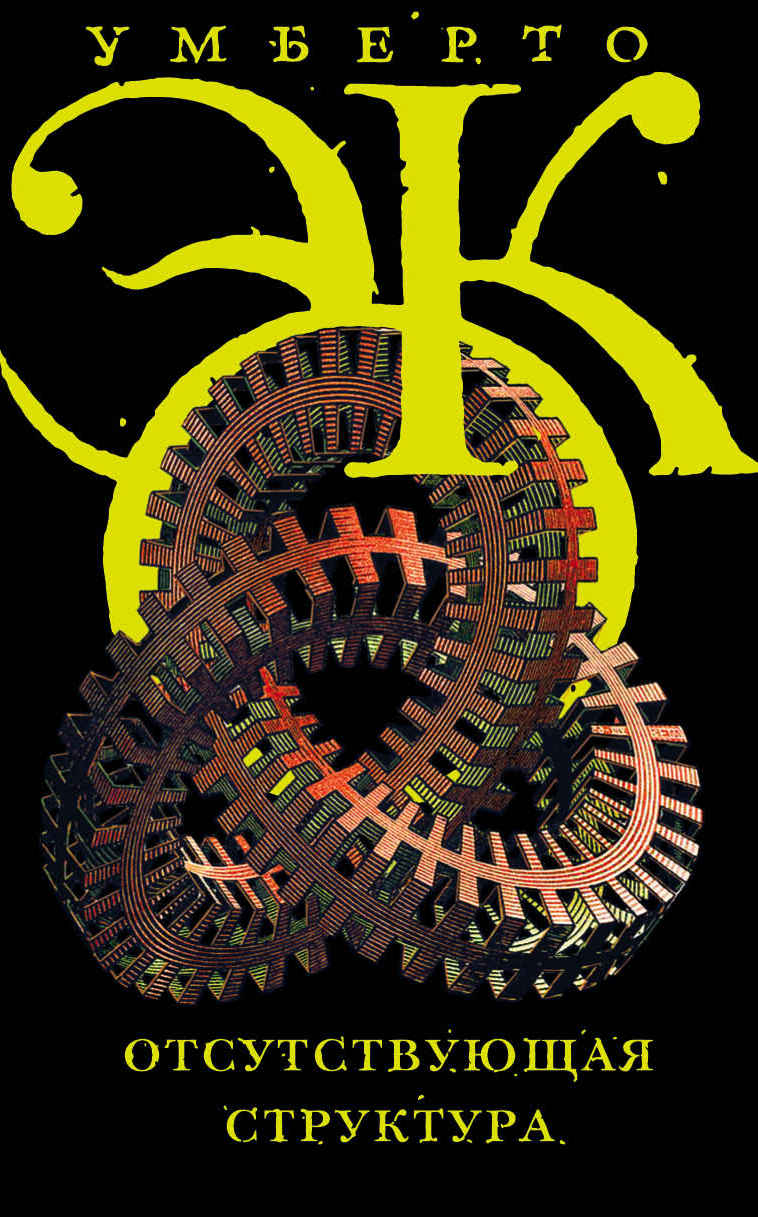Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Кроссовер книг "Благие знамения" (Терри Пратчетт и Нил Гейман) и "Имя розы" (Умберто Эко). Кроули не любит XIV век, Азирафель тоже отзывается о нем без приязни, но тревоги настоящего заставляют их вспомнить события шестивековой давности. Для ангела и демона они связаны с человеком, любившим задавать странные вопросы. Например, смеялся ли Иисус? Таков был францисканец Вильгельм Баскервильский — смертный, искавший знаний. В городе, охваченном чумой, сойдутся трое, и каждому найдется дело по силам и беседа по душе. Автор обложки — владелица сообщества VK realm_irrealis.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Akana again»: